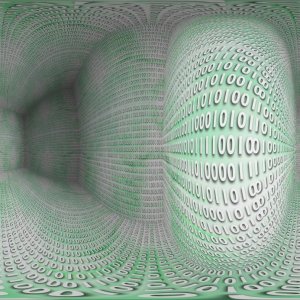«Другая весна»
Я - - автор этого блога - написал повесть.
Другая весна
Вопрос прост, да ответ глубок.
Скольким людям он раскроет глаза?
Старший брат зовет, младший откликается:
Помимо всех времен года есть еще другая весна.
1.
По улице шел убийца. Я сразу это понял. Одет, как убийца и походка подходящая.
- Там убийца идет, - сказал я водителю маршрутки.
- Хер с ним, - ответил водитель, не взглянув на меня.
Убийца скрылся за фанерными щитами.
На ближайшей остановке я вышел из маршрутки и пошел навстречу убийце. Тот уже обогнул щиты и гордо вышагивал навстречу. Когда мы поравнялись, я сказал безразлично:
- Привет, убийца.
Он машинально кивнул, потом притормозил и озаботился:
- Откуда вы узнали?
- Походка подходящая, да и вообще.
Убийца продолжал кивать, щеки его покраснели.
- Вы правы. Сегодня котят топил. Руки в крови.
Он приблизил ладони к носу и оглядел их со всех сторон.
- Видите, сколько крови?
Убийца оказался сумасшедшим. Мне стало неуютно, я поежился. Да и ветер был крайне неприятный - пронизывал и истощал. Весна в этом году выдалась какая-то другая.
Мы еще немного молча постояли. Он виновато пожимал плечами, прятал руки в карманы куртки. Я осторожно вздыхал, шевелил пальцами ног. Пальцы ужасно замерзли. Потом мы разом ссутулились и разошлись. Пройдя пару шагов, я услышал его голос и обернулся.
- Вообще-то я сумасшедший, - сказал прохожий. – Но я об – никому. Все равно не поверят.
Он согнул указательный и большой палец и поднес их к глазам. Сквозь образовавшееся кольцо он холодно смотрел на меня.
Только сейчас я рассмотрел его глаза. Радужка сливалась со зрачком. Очень неприятно. Я судорожно усмехнулся. Так все и началось.
2.
У дома меня поджидала тень. Она опиралась о тополь и, по-моему, зевала. Я нацелился в калитку, но споткнулся о выпирающий древесный корень. И сразу услышал тусклое:
- Ушиблись.
Я не привык разговаривать с тенями, тем более, если их ноги не держат.
- У меня к вам дело, - сказала тень и отделилась от тополя.
Голос у тени был, как если бы сахарная вата истекала кровью.
Я спиной ощутил, как тополь потянулся за тенью, но оробел и притаился.
- Никто не… - начал я и удивился собственному голосу. Он дребезжал от страха.
- Вы нам нужны, - отчетливо произнесла тень. - Теперь мы окончательно убедились, что именно вы поможете.
Я повторил свое «никто» и сделал отчаянный шаг. Я намеревался сказать, что никто не вправе задерживать меня по дороге домой, но не мог управлять голосом.
- Не надо называть мою сущность, - заявила тень и нырнула в свет фонаря.
Тенью оказался несчастный алкоголик дядя Боря.
- Дай денег, Семен, - сказал дядя Боря и поежился. Точь-в-точь как я, когда беседовал с сумасшедшим убийцей.
- Не дам.
Разозленный, я крепко хлопнул дверью.
3.
Я – оптимизатор. Когда знакомые слышат о моей профессии, их лица розовеют от счастья. Знакомым хочется шутить. «Оптимизатор - значит, оптимист», выкрикивают они с энтузиазмом. Я разъясняю, что продвигаю сайты. Собеседник уже готов задать следующий вопрос, я его опережаю. «Любые сайты. Например, сайт о недвижимости в Выхино». Информацию надо усвоить. Текут минуты. Я чешу ногтем бровь. Кое-кто вяло интересуется: «А как в Выхино с недвижимостью?» Я отвечаю доверительно. «Как и везде. Есть Выхино - есть и недвижимость». Люди смущаются и быстро сворачивают разговор.
Живу я один, в половине дряблого дома. Полгода назад развелся с женой, которая забрала у меня не только машину, но и совместно нажитого семилетнего сына Колю. Я много ем и прилично пью. По воскресеньям посещаю своих родителей и сына. Поочередно. Одно воскресенье – родителей, второе – Колю. Без выходных. Родители уговаривают меня жениться на старой жене. Коля жалуется, что в классе его дразнят косоглазым заикой. В обоих случаях я не знаю, что сказать. Родители раздражены. Коля несчастен. Родители кормят меня салатом из моркови, сыра и чеснока. Я кормлю Колю кремовыми корзиночками. Отделавшись от родственников, воскресными вечерами я пью пиво. В возбуждающем одиночестве.
Завтра – воскресенье. На очереди – Коля. Куда вести Колю? Повторяться нельзя: мальчик, который методично поглощает десяток корзиночек зараз, слишком забавляет скучающий персонал кафетериев.
Затрясся телефон. Я схватил трубку. Слишком быстро. Всегда очень волнуюсь, когда телефон начинает трястись, словно припадочный. Я борюсь с волнением разными способами. Например, вместо обычного «алле» говорю «нет».
- Нет.
- Что – нет?
- Мама, извини. Я шучу.
- Самое время. Приезжай немедленно, отцу плохо.
- Что случилось?
- Не знаю. Сильный кашель, ничего не ест.
У мамы потрясающая способность делать из любой бытовой мухи отцову пагубу.
- У меня завтра Коля.
- А ты сегодня приезжай. Прямо сейчас.
Голос мамы стал слабее. Я прислушался, мама говорила отцу, что я стал черствым. Папа вяло возражал – только против моего приезда, с характеристикой он был согласен.
- Ладно, сейчас поужинаю – и приеду.
- Только о жратве и думаешь. Быстро выезжай, у нас поешь.
Мама повесила трубку. Я был озадачен. «Жратва» - слово не из маминого лексикона. Что-то действительно было не так. Не с отцом.
Такси приехало через полчаса. У водителя был чеканный профиль и козлиная бородка. Я поздоровался, он не ответил. Ехали молча. Я рассматривал брелок, мотавшийся перед лобовым стеклом. Оправленный в тусклое серебро стеклянный молочного цвета шарик с алым отливом и изумрудной точкой посередине.
Водитель скомкал деньги, отсчитал сдачу. Все – молча.
- Спасибо, - сказал я раздраженно, - За комфортную езду. Приятный разговор.
- Проваливай, - сказал водила, и рванул на себя дверь.
Машина резко тронулась, я еле устоял на ногах.
- Каков мудак, а! – услышал я собственный голос. И тут же понял, что за брелок видел в салоне. Искусственный глаз с покрасневшим белком и зрачком изумрудного цвета. В тусклой серебряной оправе.
4.
- Сын, надо поговорить серьезно, - сказала мама и подвинула ко мне морковно-чесночную тарелку.
- Ага, - согласился я. – Непременно. Что с отцом?
- Отец спит. Он устал. Дело не в нем.
Я молчал. Мама подобрала лицо, насупила брови. Я помню это выражение с детства, мама изобрела его для нотаций и наставлений.
- Мама, не делай такое лицо. Я боюсь.
- Сын. Тебе нужно сойтись с Леной.
- Я не могу, мама. Она… - я замялся. – Она кусается.
- Иди вон, - устало сказала мама.
Салат я доел в молчании. Мама вздыхала, закусывала губы, теребила фартук.
- Я с Колей разговаривала, - робко произнесла мама. – Ты знаешь, что его в школе дразнят? Косоглазым заикой – ужас!
Мама схватилась за щеки. Мне стало ее отчаянно жаль.
- Бедный мальчик. Сойдись с Леной ради сына.
Мы пошли в спальню. Я растер мамины ноги бальзамом. Она затихла, подмигнула мне на сон грядущий. Помахала рукой. Я вышел на цыпочках, плотно затворил дверь.
- Сын, надо поговорить.
Отец маячил в коридоре. Он высокий, отец. Бесконечно высокий. Маячит и кривит губы.
Мы пошли на кухню, отец налил две чашки чая. Я молчал. Отец смотрел на меня глухим взором. Тоже молчал. Через десять минут я сдался.
- Папа, ты так смотришь… я скоро оглохну от твоего молчания.
- Иди спать, - сказал отец соломенным голосом.
Поперхнулся. Откашлялся. И повторил – грустно и устало: «Идем спать».
5.
Мне снилось, что я не помню, что мне снилось.
Я сбежал из родительского дома затемно. Шел через весь город в отдаленный район, где жила Лена с сыном. Принялся мутный тягучий снег. Я высунул язык, и некоторое время шел, отлавливая снежинки. Слюна от них подкислялась, будто я полоскал рот огуречным рассолом.
Мимо шагала девушка с девочкой. Девочка открыла рот, но девушка посмотрела на нее так строго, что та сразу его захлопнула.
- Веди себя прилично, - сказал девушка, и дернула девчушку за рукав пальто.
Девочка посмотрела на меня. Со страхом. Я проглотил очередную снежинку и поморщился.
Девочка рассмеялась.
- Веди себя прилично, - повысила голос девушка. – А вы – не дразните ребенка.
- Снег, как жопа огурца. Нет начала и конца, - выпалил я и слегка покраснел.
Девочка мелко затряслась, согнулась вдвое и повалилась в сугроб у кустов боярышника. Девушка растерянно посмотрела сквозь меня и кинулась поднимать девочку, сбивая ошметки снега с ветвей.
Я добрался до Лены в десятом часу. Сын уже стоял в коридоре на стреме.
- Опаздываешь, - сказал он, ворочая ресницами.
Лена демонстративно не выходила из комнаты.
- Мама как себя чувствует? – я возвысил голос, чтобы услышала Лена. – Шарф надо надеть.
- Ниче не надо, - проскрипел сын. – Это… куда пойдем?
- Лена, привет, - крикнул я вглубь квартиры.
Заверещал туалетный слив. Из сортира вышел заспанный мужик с голым мускулистым торсом. В синем трико в обтяжку. Я глаз не мог отвести от его ухоженных пальцев на ногах. Ногти были аккуратно подстрижены. На правой ноге на мыске пальца красовалась черная родинка.
Я увидел около своего живота мохнатое запястье.
- Глеб, - сказал мужик и почесал мизинцем в пупке. – А вы – папа Коли?
- Да. Я – папа Коли, - подтвердил я и перевел взгляд на переносицу мужика.
- А я – Глеб, - повторил он застенчиво и присел на корточки около моего сына. Тот стоял неподвижно и зачарованно смотрел на мужика.
- Помни, Коленька, - сказал мужик, кутая сына в шарф. - Помни, что ты – самый лучший, самый смелый, самый умный, самый прекрасный мальчик на свете. Я тебя очень люблю.
Мужик тонко вдохнул и сострадательно посмотрел на меня.
- И папа очень тебя любит.
Сын покосился на меня, почесал пальцем пуховик в районе пупка и кивнул.
Мы удалились.
Сделали десять шагов по направлению к остановке, Коленька завздыхал.
- Пап, куда мы идем?
Я хотел сказать, что мы идем обжираться пирожными, но вовремя прикусил язык.
- Куда ты хочешь, дитя?
- Па, перестань. – Сын надулся. - В бассейн хочу. Мы с дядей Глебом ходили. Он здорово плавает.
- У меня плавок нет. Полотенца тоже.
- Полотенце мама даст. А плавки ты у дяди Глеба возьми.
Я передернулся. Отпустил руку сына. Присел на корточки.
- Хочешь в бассейн?
- Ага, - обрадовался Коля.
- С дядей Глебом?
- Ага.
- Иди!
- Правда?
- Иди, иди. Корзиночки отменяются.
- Ура! Папа, а правда, что если жрать корзиночки, то на пузе будут резиночки? Так дядя Глеб говорит.
6.
Продавщица в ларьке была похожа на маркизу де Помпадур кисти Кантена де Ла Тур. Она ласкала купюры крохотными пальчиками. Доверчиво улыбнулась тысячной, подняла глаза.
- Мадам, две бутылки пива. Для хорошего дела.
- Что изволите? – поддержала игру маркиза.
- Чтобы лилось хорошо.
Приняв две холодные бутылки «Жигулевского», я открыл их одна о другую. Свесив руки, медленно пошел по улице. Пиво выплескивалось из бутылок толчками, словно кровь из артерии.
Зазвонил телефон.
- Блюм.
- Что – блюм?
- Извини, Сергей. Я шучу.
- Дошутишься. Ты где?
Я замялся.
- Понятно. Дуй домой. Камбэк!
Сергей – мой Калибан. Он меня боготворит и ненавидит. Выполняет черновую работу: гоняет сайты по каталогам, спамит и парсит, лепит дорвеи, общается с Платоном. С пугающей регулярностью Сергей придумывает новые способы генерации трафика. Один другого диковиннее и безнадежнее.
Лучшее, что умеет Сергей – находить клиентов. Почему он до сих пор со мной? – Непостижимо. Наверное, потому, что – трус. Оптимальный оптимизатор под прикрытием.
Из сбивчивых объяснений Сергея стало понятно, что он нашел заказчика «на миллион». Вранье. Максимум – пару тонн зеленых.
7.
Сергей ворвался в калитку. Глаза его не то – сияли, не то – зияли. Он пытался поздороваться, но вместо этого возбужденно забулькал. Потом заурчал, лицо стало масляным, и Сергей угодливо поклонился невысокому коренастому человеку в длинном, до пят, плаще изумрудного цвета. Тот неподвижно стоял перед калиткой и смотрел поверх наших голов. Куда-то на крышу.
Я посмотрел туда же и увидел на голой тополиной ветке облезлую ворону. Она сосредоточенно долбила сук, на котором сидела.
- Весенний вечер, - сказал незнакомец. Поморщился и продолжил:
- На голой ветке
Скучнеет ворон.
Весенний вечер.
- Чернеет, - поправил я коренастого. – Чернеет ворон.
Тот перевел глаза с поволокой с вороны на меня и понуро сообщил:
- Только вы можете нам помочь.
- Знаю. Но вот ворона… не помешала бы.
Мы прошли в дом.
8.
Начинается самая трудная часть моего рассказа. Началась. Теперь полегче.
Коренастого звали Демид Демидов. Он хотел, чтобы я занялся продвижением его будущего сайта.
- О чем сайт?
- Обо всем.
- Как, то есть?
- Сайт отвечает на самый главный вопрос.
- На какой же?
- У каждого человека он свой. Возьмем вас. Какой ваш самый главный вопрос?
Брать себя мне не хотелось. Я предложил взять Сергея.
- Хорошо, - согласился коренастый. - Так какой ваш самый главный вопрос, Сергей?
Я увидел, как Серегины зрачки расцвели ландышами, опали пионами и налились кровью стяжательства.
- Плохо дело, - сказал коренастый. – Давайте все-таки вас возьмем. Какой ваш самый главный вопрос?
- Черт знает…
- Это не главный, - незнакомец выглядел раздосадованным. – Вот что. Сделаем так: вы начните с себя. Подберите семантическое ядро. Что – я учить вас буду, что ли?
У меня заныл желудок. Второй сумасшедший за сутки. Включая ворону – третий. Я встал.
- Сядьте, - строго сказал Демидов. – Я шутить не люблю. Где чай?
Сергей кинулся на кухню. Он распоряжается в моем доме, и я это терплю.
- Значит, так, товарищ. Вот десять тысяч долларов.
Он выложил передо мной десять банкнот с Гровером Кливлендом.
- Вы знаете, что это такое? – коренастый свернул одну банкноту в трубочку и посмотрел через отверстие на меня.
- Это раритетные купюры достоинством в тысячу долларов с Гровером Кливлендом, - промямлил я.
- Они – ваши. Вы получите в сто раз больше, если доведете работу до конца.
- До конца?
- Подберете ключевые слова
Демидов тяжело поднялся с места и двинул к выходу.
- Скажите, - прошептал я, поднося ему плащ, - Вы – коммунист?
- Я – Гровер Кливленд, - сказал Демидов и оскалил зубы. Сплошь золотые.
Хлопнула калитка.
В комнату влетел Сергей с подносом, уставленным чашками.
- Вот и ча… Где он?
Я неопределенно махнул рукой.
- Как же ты его отпустил?... Абздольц! - Сергей швырнул поднос на диван и вцепился ладонями в шевелюру. Краем глаза он заметил купюры. Серегина челюсть вытянулась и поползла к Кливленду.
На край банкноты присела муха. Я послал ей воздушный привет.
9.
Как я провел вечер?
Безучастно. Безучастно провел я его из ощущаемого в недосягаемое. Суетился Сергей, требовал застолий, приносил–уносил бутылки, крошил салаты, принимался звонить кому-то, орал, обещал, сулил, умолял. Я смиренно лежал, скрестив руки на груди, щиколотка правой ноги – на валике дивана. Долго-долго рассматривал я большой палец правой ноги, представлял, что на нем появилось родимое пятно. Оно увеличивается в размерах, накрывает палец, переползает на остальные, карабкается по стопе, стрекочет по пятке. Нога превращается в родимую ногу. И всякое прикосновение к ней вызывает сладкий зуд. Хочется содрать эту коросту, но как же! Родная ведь, родимая.
Удалось мне выставить Сергея уже за полночь. С ним были какие-то веселые люди с размалеванными по лицам улыбками. Торчали руки, груди. Требовательные ноги подходили ко мне, топотали, видимо, чего-то ждали, гневно заискивали. Когда я сказал: «Пошли вон», все исчезло – сонно и неторопливо.
Утро выдалось тягучим. Я вскочил с дивана, и, теряя равновесие, охнул. Правая родимая затекла от большого пальца до коленки.
Я разделся, и подошел к зеркалу. На меня смотрел мужчина среднего калибра. Фигура оплывшая, тело безволосое. Половые органы сбились в крохотную кучку, мне не хотелось их разглядывать.
Взгляд мужчина был равнодушным. Правый глаз – зеленый, а левый – в крапинку. Рот перекосился, мужчина попытался его выровнять, но тогда немедленно уплыл в сторону нос. Подбородок был чем-то рассержен. Уши еще не проснулись. Волосы тревожно озирались по сторонам. Щеки перешептывались.
Каждая часть тела по-разному формулировала самый главный вопрос.
Живот: когда будем завтракать?
Рот: надеюсь, не будем завтракать?
Уши: зачем мы?
Щеки: какие мы?
Нос: с кем я?
Подбородок: почему я?
Волосы: откуда опасность?
Глаза: не пора ли одеться?
И только у половых органов не было главного вопроса. Зато было множество второстепенных.
В окошко бросили рыхлым снегом. На улице махала и приседала баба Нюра, то и дело оправляя землистого цвета платок. Когда я вышел, она бросилась с причитаниями ко мне.
- Боря умер! Умер! Умер Борька. Допился, слышь, Семен, - умер! Он вчера деньги занимал у тебя?
- Позавчера, - я услышал свой скорбный голос.
- Позавчера и пропал. Вчера искала, искала. В колодце смотрела. Слышь, Семен? В колодец, думала, бухнулся. А он – вон – на задах огорода. К парнику видно, прислонился, а потом – в компост.
- Это… что ж… когда нашли?
Баба Нюра уже бежала дальше по улице, подбирая рыхлый снег и швыряя его в окошки домов.
Дядю Борю было, конечно, жаль. Но, как будто, и не очень. В сущности – умер и умер. Не событие. Пил он матерно, жену свою – Нюру – бил. Был причудник, мастерил страшные маски, пугал по вечерам прохожих. Имел скверную привычку мочиться под калитками соседских домов. А, все-таки, жаль.
Я пошел на кухню, чтобы налить чаю. Ведь если утром не выпить горячего чаю, то жизнь кажется гораздо сложнее, чем кажется, если не выпить кофе.
На кухне сидел дядя Боря. Он грыз ногти и помаленьку откусывал от булочки с изюмом.
- Здравствуй, дядя Боря, - сказал я. – Ты воскрес, что ли?
- Здравствуй, Семен, - ответил дядя Боря. – Чего это мне воскрешать? Я не умирал.
- Ты ж в компостной куче валялся. Теть Нюра жаловалась.
- Не валялся, во-первых, а искал смыслы. А во-вторых, не надо баб слушать. Тем более всяких Нюр.
- Нет, дядь Борь, так не пойдет. Рассказывай.
- Проснулся я ночью, после того, как мне денег не дал, и тоска забрала, Семен. Думаю: говенный я мужик. Кому нужен? Смотрю в окошко. Звездочка ясная. Нужен я ей? – Нет, не нужен. Месяц физиономию кривит. Нужен я месяцу? – Не нужен. Бабе своей – не нужен. Тебе – и подавно не нужен. Детей нет. Друзей нет. Врагов – хоть отбавляй, но им тоже не нужен. Враги-то не любить должны, а эти только ругаются. И тут – компостная куча.
- Компостная куча?
- Компостная куча. Под снегом затаилась и зовет меня к себе. Робко так, тихохонько: Боря, Борисочка, согрей меня, ты мне нужен.
- Вот значит как…
- Да, Семен, так-так. Оделся я кое-как, пошел к куче. Прилег на нее, обнял вот эдак (дядя Боря растопырил руки) и…
- Нужен?
-Нужен. Уснул, понимаешь. Спал как младенчик. Проснулся – опять уснул. Тепло мне, радостно. И кушать-то совсем не хотелось. Мысли все белые такие. Все о пшенице, о мае. День прошел, ночь привел. Переночевал я на куче, чую - баба моя пинается. В бок – пихает и пихает. Я – молчок. А она заверещала… Конец покою. Да и живот слегка подвело.
- Не кормила тебя куча?
Дядя Боря обиделся. Надулся, как маленький. Я зажарил яичницу, поставил перед дядей Борей. Он степенно ел, потом пил, отдуваясь, чай. Но больше – ни слова.
Пришлось говорить мне о вчерашнем посетителе. Дядя Боря внимательно меня выслушал и сказал:
- Неконгруэнтен ты, Семен. Я тебе сказку расскажу, а ты уж сам решай, что делать. Сказку о снежинке-потаскушке.
Я не выношу любых спекуляций на сексуальную тематику. Постельный юмор приемлю только дозировано, в гомеопатических дозах. А тут – целая сказка…
- Уволь, дядь Борь. Я не знаю, чего тебе компостная куча нашептала, но не хочу я эту дрянь слушать.
- Вот ты выводы делаешь, а напрасно. Не меряй снежные смыслы человечьими.
10.
Сказка о снежинке-потаскушке
Жила снежинка-потаскушка. Потаскал ее зимний ветерок, всласть потешился. Товарки ее все галдели, куда тебя носит, дура? А та, как корова, очами водила, мол что же я могу сделать? Куда ветер – туда и я. Подневольная я снежинка… А мы – вольные! – продолжали товарки. Голову на плечах надо иметь, не тащиться, куда ни попадя. Покружись маленько – да в сугроб. В общем, затравили бедняжку.
Пришел март. Настал черед снегу таять. Зимний ветер убрался восвояси, прилетел весенний. Подхватил снежинки, закрутил. Оставь нас, Кочубей, орут снежинки вольные. Мы – вольные, хотим – порхаем, хотим – в грязи валяемся. Приуныл ветер. А тут одна снежинка, наша-то, голос подает: тешься мною, таскай, как хочешь. Волю первую твою я исполню, как свою. Так-то.
Засвистел ветерок от радости, подхватил снежинку, да и помчал ее за синие горы к студеным ручьям. Поднимал до небес, бросал оземь. Трепал и кружил как придется, да снежинке – все нипочем. Поистаскалась вволю.
Подходит лето. Товарки снежинки тают, даже луж не оставляют. А наша-то потаскушка – живет! Хоть и бледненькая, но бедовая. Но тут солнышко пригрело, и к Пасхе-то обмерла она на камилавке у батюшки во время крестного хода. А потом и водяной след высох. Не стало больше снежинки-потаскушки. И товарок ее тоже не стало.
- А смысл-то в чем, - спросил я злым голосом.
- В выборе, - объяснил дядя Боря. – Кому – потаскаться, кому – в грязи поваляться. Ладно, пора мне.
Он поднялся.
- Что же делать-то теперь? – тупо спросил я.
- Мне – компостную кучу греть. А за тебя я не ответчик. Да, сказку-то я не до конца рассказал. Гляди-ка.
И дядя Боря сунул мне под нос указательный палец с примостившейся на подушечке крохотной снежинкой.
11.
Я взял чистый лист и написал сверху: «План мероприятий по выводу себя из неконгруэнтного состояния».
Перечеркнул. Скомкал. Взял другой лист.
«Что надо делать?».
Смял. Взял третий.
«План».
Отбросил с омерзением. Подхватил четвертый.
1. Подобрать ключевые слова для сайта. Начать с себя.
2. Вернуть Лену.
Подумал и зачеркнул. Написал иначе: «Вывести Глеба на чистую воду».
3. Поговорить с отцом.
Насупил брови и приписал: «Поговорить с отцом по душам».
Поставил точку. Тут же позвонил Сергей. С самого утра он развел бешеную деятельность по составлению семантического ядра. Обошел весь подъезд, в котором жил, все двадцать пять квартир. Открыли только в двенадцати. На вопрос ответили в семи.
Сергей коротко продиктовал мне главные вопросы своих собеседников. Какого хера жрэу не скидывает сосульки с крыши? Почему второй месяц в Дьяковской бане дурит парилка? Зачем Зина купила поганого карпа, который вторую неделю занимает ванную? Когда я получу третьеразрядника по шахматам? Кто будет танцевать в новом сезоне «Танцев на льду»? Зачем я живу, когда все надоело? Что делать, если чешется в паховой области?
- По-моему, шестой вопрос вполне перспективен, - заметил Сергей. – А ты что успел?
Я сказал, что мое утро выдалось не столь насыщенным, как у него, но более драматичным. И высказал пожелание все тщательно обдумать. Сергей одобрительно попрощался.
Немедленно позвонила Лена. Не поздоровавшись, потребовала:
- Жду объяснений.
- ?
- Почему ты прогнал сына.
- Лена, что ты… Он плавать хотел, а у меня плавок не было.
Реакция последовала мгновенно:
- Взял бы у Глеба.
И тут же смягчила тон, видимо, осознав абсурдность предложения.
- Общаться ведь не обязательно в бассейне.
- Лена, я сына люблю. Пусть ему будет хорошо.
Лена всхлипнула.
Я взял паузу.
- Наверное, ты не такой эгоцентрик, как кажешься. Вот и Глеб тоже…
Я насторожился. Пауза длилась.
- Слышишь меня?
Я вздохнул.
- Глеб говорит, что ты расхлябанный. А в общем – неплохой.
- Тебе хорошо с ним, - утвердительно произнес я.
Задавать вопросы, тем более, возмущаться, - никудышные способы вызвать Лену на откровенность. Осторожные утверждения и смиренное поддакивание могли принести результат.
Лена замялась.
- Он – такой, как ты был, когда-то.
- Орхидеи еще не зацвели, - произнес я нашу фразу.
Лена обожала орхидеи. Киноцитата из советского «Шерлока» стала для нее манком лет пятнадцать назад.
Первые вечера после свадьбы прошли под аккомпанемент бубнящего в соседней комнате телевизора. Мы слушали, как Михалков с Соломиным бродили по Гримпенской трясине, и пару раз любовное потрясение настигло нас под аккомпанемент Баскервильской псины.
- Не надо, Семен, - сухо сказала Лена. – Орхидеи давно отцвели. Что тебя интересует? С Глебом я познакомилась месяц назад. Неделю назад он перешел к нам. Очень любит Колю и благотворно на него влияет. Мы собираемся расписаться. Что еще?
- Да, да, ты права, – поддакнул я.
Перевел дух, и тут же выдал очередную утвердительную фразу:
- Он в банке работает.
Лена рассвирепела.
- Он – работает, Семен. В отличие от тебя, просиживающего штаны перед компьютером.
Я прикусил губу… терпи, Сеня! Главное – не выдать себя.
- Глеб – криминальный психолог. Составляет психологические портреты преступников. А ты – гниешь в своей интернет-трясине. По Сеньке – и шапка.
Финал любой гневной отповеди, как правило, совпадает с завершением разговора. Обвиняющий человек чувствует жгучую обиду – это общеизвестно. Многие обвинители на месте Лены швырнули бы трубку. Но только не она. Лена знала, что перешла грань и чувствовала себя виноватой. В сущности, она была чутким человеком. Но то и дело забывала об этом.
Я собрался с духом.
- Лена, я виноват перед тобой. Прости меня. Я был мелочным, трусливым и глупым. Мы больше никогда не сможем быть вместе. Но, Лена, орхидеи никогда не отцветут в моем сердце. Они - только для тебя.
Я аккуратно выдохнул в трубку и нажал на кнопку.
Последняя фраза была невыносимо пошлой. Еще предпоследнюю растроганный человек мог бы выдержать без душевной судороги. А вот лицемерную последнюю…
Раздался третий звонок. Номер был незнаком.
- Вы уже приступили? – после вопроса раздался оглушительный треск, будто в трубке разорвалась маленькая бомбочка.
- Демид?
- Он самый. Вы начали работу? – Демидов усердно насасывал и чавкал.
- О, да, - я заторопился. – Да, конечно. Мой подшеф… в смысле, напарник опросил сегодня…
- Этот мелкий стяжатель?
- Сергей. Как вы его! – подобострастно протянул я.
- Кого же он опросил? – с нескрываемой иронией поинтересовался Демидов.
Я прямо видел, как он кривит полные губы. Жует жвачку, мерзавец. Надувает пузыри, и запускает в трубку.
- Соседей опросил. Так себе результаты. Например…
- Меня не интересуют эта белиберда про сосульки и разряды.
Я даже не поинтересовался, откуда он знает.
- Но там есть один перспективный вопросик. О смысле жизни.
Чавканье смолкло. На том конце шел мыслительный процесс. Подозревая, что он сопровождается взращиванием громадного пузыря, я отвел телефон от уха.
Прогремел взрыв.
- Вы слушаете? Может, вы и правы… насчет перспектив. Хотя я бы не возлагал особенных надежд. Боюсь, что вы упустили самое главное – начните с себя. С себя!!! – он заорал, бешено замолотил челюстями, и в трубке началась жвачная канонада.
- Понял, Демид.
- Съездите в Выхино, черт возьми.
- За.. зачем?
- Вы же занимались недвижимостью в Выхино!
- Но какое отношение недвижимость имеет к главному вопросу!
- Вы что - идиот?
Я сурово молчал.
- Эй… Семен, вы слушаете?
- Не будем позволять себе лишнего – с достоинством отозвался я.
- Не будем, - немедленно согласился Демидов. - А в Выхино съездите. Там много клиентов. Но – помните самое главное.
- Да, да. Начать с себя.
- Именно. Похоже, я не ошибся в вас. Работайте.
Он закончил разговор так же внезапно, как его начал.
Диалоги с зеркалом, воскресший покойник, тайны компостной кучи, сомнительная сказка, три безумных звонка – вполне достаточно, чтобы подорвать потенции любого дня. А ведь он только начинался. Близился полдень.
12.
История выпирает из меня, словно тесто из квашни. Слова не те, а весна все тянется. Ни конца, ни краю.
Первым делом я решил собрать максимум информации о шестом соседе Сергея. О том бездельнике, который задался вопросом, зачем жить, если все надоело.
Сергей встречал меня у своего дома. Он приседал и подпрыгивал. Подпрыгивал и приседал. Около него приседала и подпрыгивала головастая болонка.
- Замерз. Тещина. Гостит, – лаконично пояснил напарник.
- Пошли?
Сергей отрицательно мотнул головой.
- Еще полчаса прыгать. У нее режим.
У входа в подъезд я столкнулся с бравым дедом. Он загораживал проход и деловито покручивал ус. Дед был в допотопной шинели поверх гимнастерки, из под которой виднелись шаровары, заправленные в хромовые сапоги. Едва я открыл рот, как дед выпятил грудь и рявкнул:
- Пароль?
- Дедуль, пусти. Замерз я.
- К Верке с седьмого?
- Вовсе нет. В десятую.
- А, в десятую… - дед сразу же потерял ко мне интерес. – А то к Верке ездят всякие, женихаться. Стерегу их.
- На бутылочку раскрутить?
Дедушка нахмурился, сгреб меня в охапку и затащил в подъезд. Через три минуты я уже сидел на его чистенько убранной кухне и оглядывался по сторонам. На стенах были развешаны вырезанные из книг и журналов фотографии полководцев гражданской и великой отечественной войн.
- Это кто? – ткнул пальцем дед в одну из фотографий.
- Блюхер.
- Молодец, - дед рассмеялся. – Значит, ты к Бузявиной? Не ходи. Ендовина она – только заморочишься.
- Дедуль, нехорошо так о женщине.
- Ты меня, сопля, учить будешь? Ты знаешь, кто я? Меня сам Конев Иван Степаныч за щеку трепал. Я… да я…
И дед кратко и живописно рассказал мне историю своей жизни: рождении в закарпатском хуторе под Виноградом, ранней смерти родителей от холеры, житье-бытье сыном полка в 53-й армии Мангарова, счастливой послевоенной любви и пятидесятилетнем одиночестве после того, как в 60-м его молодая жена умерла во время криминального аборта.
- Я-то по первоначалу в полку все около полевой кухни крутился. Приставили меня для порядку и помощи к ротному повару дяде Феде. Кашей занимался. И так поднаторел, что к нашему котлу, бывало, из соседней роты бегали. Не осталось ли чего поскрести? Да какое там! Наши все вычищали, аж стенки блестели. А я – вишь, косноязычен малость с детства был. Жизнь-то не холила. Мне вопрос какой зададут, я в ответ: «Угу да куху». Оттуда и прозвище мое – Кухулин. Кухонный сын. Ну вот, проугукал так пару месяцев, а потом – взвыл: хочу, мол, на передовую. Ну и получили – херакнули нас на Уманско-Ботошанскую операцию, слыхал? Баллу брали, Котовск, потом Дубоссары. А я озверел к концу войны, многое повидал. Так я их, гнид,…
И дед обстоятельно, но несколько однообразно рассказал, как он поступал с фашистскими гнидами.
- Отец, а тебя что волнует сейчас?
- Психическое состояние Верки с седьмого, - мгновенно ответил дед. – Она такая же щипуха, как моя Маринка была. Гуляет до усрачки.
- А разве ваша жена… - вывел я осторожно, понимая, насколько деликатна тема.
Но дедушка – ничего, глазом не моргнул.
- Не, Маринка – она ничего, костяника. Кремень. Ну, случилось разово, - развел дед руками – бывает! Я уж ее утешал, увещивал. А она каялась страшенно – поклоны била. Заморила и себя и ребенка. А я ей говорил, рожай, пусть живет. Я воспитаю, мне без розницы – чей.
- И что же, больше не женились?
- Зачем ишо такое счастье? Так, перещупывался иногда. А то и поддергивал. Чай, не монах. Бегали за мной, да я их гнал, к душе не подпускал. Тело-то стерпит, а душа – не могет.
Дед сдвинул брови, выставился из-за стола и заявил:
- Забулдонил ты меня. Пора дежурить.
- Да, да, мне тоже.
- А ты чего в десятую? Не извращаться ли?
Я схватился за грудь. Не хватало еще, чтобы меня приняли за ухажера неизвестной Бузявиной.
- Да я из… жрэу, насчет сосулек. Посшибать.
- А! – беспечно махнул рукой дед. – Через месяц само рассосется. А вот что парилка в Дьяковской испоганилась – это непорядок.
Мы вышли из дедовой квартиры. Я направлялся вверх, к Бузявиной, дедуля нацелился вниз, к выходу.
- Ты сам в Дьяковскую-то ходишь? – спросил он меня уже у порога, полуобернувшись.
- Да я из другого района.
- А то – приходи, попаримся. Там много ваших.
- Жрэувцев?
- Хуювцев. Оптимизаторов!
Я обомлел, вытаращил глаза.
- Да не боись. Есть многое на свете, друг Горацио, на чем не сделаешь оптимизацию. Будешь в Дьяковской – Пахома Вискряка спроси. Всякий знает.
13.
Перед десятой квартирой лежал тканый коврик с композицией из цветов и котят. Довольные котята выныривали из цветов, прижимали лепестки к пушистым животам и цепко обвивали стебли хвостами, словно змеи череп вещего Олега. Котята были мордаты и надменны. Цветы пышны и махровы. Все это едва ли пришлась по вкусу даже завзятым кошколюбцам, патентованным цветоведам. И тут дверь распахнулась, передо мной предстала гражданка Бузявина.
Она была не то, что пьяна, но навеселе. Держала в одной руке ярко-красную бутылочку, а другой – маленькую аленькую рюмочку. Ласково причмокивала.
Появление женщины застало меня врасплох.
- Бузявина? – брякнул я.
- Кузявина! – отрекомендовалась веселая, и ринулась в квартиру напротив.
Двенадцатую, стало быть.
Затем в дверном проеме показалась другая женщина – поскучнее. Она нагнулась, поправила сбившуюся набок котячью морду и заунывно провозгласила:
- Заходите, раз пришли.
А потом, из-за плеча:
- На котяток не наступите.
Я сделал длинный шаг и оказался в прихожей. Вспыхнул свет. Прихожая была пригожей. Я попытался сострить:
- Пригожая у вас прихожая.
- Плакать хочется, - объяснила Бузявина из глубин квартиры.
Я переобулся и осторожно шагнул следом.
Бузявина замерла в глубочайшем кресле. Со спинки свешивалась накидка с изображением токующих перепелов. Или тетеревов. Они пучили зобы и целились клювами друг в друга.
- Я знаю, кто вы, - сказал Бузявина, не глядя на меня. – Я знаю все. Проходите, (она махнула рукой в направлении смежной комнаты) и ждите.
- Кого?
- Его.
- Там?
- А где же?
- Здесь.
- Но вы же к нему.
- Я-то?
Она привстала в кресле, подалась вперед, не глумлюсь ли. Теперь я рассмотрел ее подробно. Бедное мимикой, невыразительное блеклое лицо обрамляли витые косицы. На макушке волосы закручивались вылинявшим штруделем. Глаза, обещавшие в юности полноту небесной лазури, растеряли ныне даже редкие ее проблески. Щеки стыдливо румянились. А нос торчал как башенный кран посреди пустыря. Губы шевелились, блямкали, терлись одна о другую, но давно уже ничего не сулили. Спустившись чуть пониже, я обомлел. Шею Бузявиной плотно обхватывала горловина бледно розовой кофточки. Изысканная эта вещь тщательно облегала фигуру Бузявиной, выставляя напоказ дерзкую грудь, хрустальную талию и надменные бедра. Я заерзал от восторга. Ниже кофточки струились брючки-клеш. Ткань их непреднамеренно и со знанием дела, где надо подламывалась, как надо загибалась и стыдливо морщилась. Когда Бузявина переложила ногу за ногу, в голове моей задергались молоточки, а уж когда она встала и направилась на кухню за чаем – задрожали колбочки. Знаете, есть такие предательские колбочки. Они бешено дрожат, когда женщина с исключительной фигурой поворачивается к вам спиной.
- Идите пить чай на кухню, - проскрипела Бузявина.
Выходило, что Вискряк прав. Я – извращенец.
14.
Кое-как мне удалось утихомирить молоточки и успокоить колбочки. Степенно вошел в кухню. Бузявина уже сидела за столом, воспаленно уставившись в пространство.
- Чай, калина, сахар, лимон - все перед вами.
Я принялся за чай, подчищая ложкой с тарелки калиновый сироп. Бузявина – ни гу-гу. Я потихоньку вошел во вкус: подчавкивал, постанывал, навалил из банки в блюдце сиропа. Тыкал ложкой в калину, облизывал ложку, опять тыкал и, блаженно мыча, слизывал. Подливая чаю, не щадил песку, бил калиновой ложкой о стенки чашки, звякал в днище. Потом уж совсем осмелел: поднимал ложку над чашкой, переворачивал. Чай лился в чашку, лопались пузыри, я ворожил с конфетными обертками, обсасывал лимон до корок. Затем и цедру всю съел, без остатка.
Бузявина – молчок.
Я изнемог.
- Спасибо… - сказал я. – Все так вкусно было. Как в детстве.
По лицу Бузявиной потекли слезы.
Надо было сразу встать и уйти. Сказать, что произошла, мол, ошибка. Что не надо мне в смежную комнату, что я просто заглянул на минутку насчет главного вопроса бузявинской жизни.
Но было поздно. Бузявина разревелась, и рассказала о своем непутевом сыне, который – не пришей кобыле хвост. Так и сказала:
- Не пришей кобыле хвост. А пришьешь – отвалится.
Тридцать с лишним, не женат, детьми не обзавелся. Ночью чего-то пишет, днями шатается. От тетенек – шарахается. Так и сказала:
- От тетенек, слышь – шарахается. Да я то в его годы! Этому – дала, этому – дала, этому…
Женщина выпучила глаза и закашлялась.
- Всякие ухажеры были. Пока замуж не вышла.
О-го-го! Вот тебе и Бузявина.
- Да вот, - продолжала горемычная, - недавно завел какую-то шуструю с дитем. Теперь и ночует там. Поутру приходит – и насилует компьютер. Мать его обедом корми – а он с матерью-то и не перемелется словечечком. Все – букой, букой, да к той суке.
Она ахнула, взглянула на часы и умчалась в комнату. Я взял банку с калиновым джемом и подошел к окну. Внизу шли какие-то командировочные с авоськами. Я высунул банку в окно и перевернул ее.
- Вот и я так всегда делаю от скуки, - раздался сзади ласковый голос Бузявиной. – Лей, не жалей.
Наваждение. Я сидел, размякнув, над столом, а Бузявина подливала мне чаю, приговаривая:
- Лей, не жалей.
- А зачем вы переоделись?
На Бузявиной был цветастая тряпка с обезумевшими пионами. Я идентифицировал тряпку как ситцевый халат. Грудь, талия и бедра Бузявиной утонули в тряпичных соцветиях. Из-под полы халата торчали ворсистые тапки с беличьими мордами.
- Сын придет, - недоуменно пояснила Бузявина.
Вдруг она как-то присобралась, набычилась.
- Вы чего пришли-то? Кто вы? Ты кто? Чего тебе здесь? Чай выпил весь. Калину – ах! – калины-то не оставил ни на лизок.
- Да я не к сыну, я к вам. Насчет главного вопроса. – Я выпалил все разом. – Вы несчастливы, мне Сергей сказал, а причина-то в чем? Причина! То! В чем!
Бузявина задумалась на мгновение. И влепила мне пощечину.
- Иди-ка. Иди-ка, идика.
- Нет, послушайте! Вы слушайте!!
- Идикаидика!
Она пихала меня в грудь, оттесняя в сторону входной двери.
- К сыну я вашему! Насчет работы.
Бузявина отцепилась от меня, всхлипнула и побрела на кухню.
- Никому я не нужна. Зачем живу, когда все надоело?
Из прихожей я слышал подвывания Бузявиной и еще какой-то тонкий хищный звук. Ветер, - догадался я. Форточку открыла? На кухне переставляли, звякали и шебуршали. Потом ойкнуло, качнулось, шлепнулось. Донесся то ли визг, то ли рев. А через пару секунд бешено завибрировал звонок входной двери.
Бузявина не показывалась. Я открыл дверь и первым делом посмотрел на коврик.
Котята принюхивались к грязным мужским ботинкам. Кап-кап. На кошачьи морды посыпались какие-то иссиня-черные капельки. Я поднял глаза и увидел Глеба. По лицу его стекал черничный джем. Я по запаху определил.
15.
В пятом классе меня избили. Я возвращался из школы после второй смены. Было уже темно, с неба таращились звезды, и я давал им фамилии своих одноклассников. Рыжую толстую звезду я назвал Корчагин. А бледную и маленькую – Островитянинова. Корчагина я боялся. А Олю Островитянинову - любил.
У нашего географа по рту вечно была каша-размазня. Когда он начинал водить ручкой над журналом и мямлить – это было мучение. А когда размазня пытался вызвать Островитянинову – это было мучение вдвойне. Для меня и для нее. Но только не для Корчагина. Этот рыжий дебил пердел на задней парте, а географ с его кашей во рту слова не мог ему сказать. Географ пыкал, мыкал, укоризненно глядел на Корчагина, а тот пердел и пердел, заливаясь пердячьим своим смехом. Извините. Я просто сильно злюсь, когда вспоминаю этот смех.
Острови – тяяяя – нинова, - веселится Корчагин. Географ мучительно водит ручкой над журналом. В классе – напряженное веселье. Все таращатся на Олю. Ну, и на меня. Я однажды не выдержал, подошел к Корчагину и дал ему костяшками по губам. Меня папа так научил. Повернуть ладонь к себе, сложить кулачок, согнуть, резко выпрямить – врезать костяшками. Помогает от борзости. Но Корчагину не помогло.
Я иду по мартовскому снегу, таращусь на звезды. Краем глаза вижу три фигуры, у одной знакомые вихры – рыжие. Всегда, между прочим, чистые. А у Оленьки то и дело сальные волосы.
- Эй, - орет Корчагин. – Стойбля!
У меня мотор включился. Бросился от них наутек. Бегу, портфелем махаю, чтобы по голове там сзади кому-нибудь засветить. Не вышло.
Окружили они меня. Впереди – Корчагин. Ухмыляется, а волосы – чистые и душистые. Пахнут одуванчиками.
- Ссышь? - спрашивает.
- Неа, - мужественно отвечаю.
- Держите его, парни, - говорит Корчагин.
Те берут меня за локти, я дрожу. Корчагин отводит коленку, и бьет… кто ж его научил, так бить?
У меня перед глазами – парад-алле из всех звезд нашего и параллельного класса. В центре хоровода – рыжая звезда с цветочными вихрами. Интересуется:
- Хорошо оттяжечка?
Попинали меня немножко и ушли. Я пополз по снегу на карачках. Ноги никак не сводились. На следующий день в школу не пошел. Ноги все пытался свести. Никому не рассказал, притворился, что живот дурит.
На послезавтра пошел в школу. Корчагин стоит у окна с подельниками. Головы не повернул, только ухмыльнулся в мою сторону.
Я спокойно – на урок. Как раз география была. Ольга с сальными волосами сидит, бледная, царапает выщербину на стене.
- Оль, ты хоть бы волосы вымыла, - говорю я ей.
Она поднимает глаза, смотрит на меня, как собака на хозяина, который ее голодом третий день морит.
Я сажусь с ней рядом. А вообще-то я – на предпоследней парте с Борькой Барбулиным. Борька забеспокоился.
- Ты чего, - спрашивает.
- Да я тут урочек, - отвечаю, - перекантуюсь.
Заходит географ. Начинается пытка звуками. Корчагин опять за свое.
Географ подбирается к Оленьке:
- Оштгоштгофтви- тяяя
- яяяяя….нинова, - портит воздух Корчагин.
Я достаю из портфеля два сырых яйца, подхожу к нему и – в лоб. По очереди: первое и второе. Желток течет, белок протекает.
- Яйца, - говорю, - крепкие оказались. Коленкой не бьются. Но, теперь, вроде, порядок.
- Да я тебя, - орет Корчагин.
Тут я ему опять костяшками. Живописно! Красное и белое. И желтое – местами…
Такой вот фейсарт. Как сейчас у Глеба.
Понравилась история? Только я наврал. Все было иначе.
16.
В пятом классе меня чуть не избили. Я возвращался из школы часов в шесть вечера. Звезд не было, их мартовская корова с неба языком слизала. Рядом со мной шел Генка Дятлов, которого все звали Коршуном - за крючковатый нос. Мы болтали ни о чем.
К нам подошли трое. Или четверо. Один – из параллельного класса, по кличке Преферанс. Никто из нас тогда не умел играть в преферанс, а кличку ему дали потому, что наш завуч, она же физичка, выговаривала ему: «Тебе, Андрей, никаких преференций не будет». Загадочные «преференции» превратились в приблатненный «преферанс».
В общем, шел себе хулиган и двоечник Преферанс, а с ним пара или трое шавок поменьше и поскучнее.
- Иди сюда, - приказал Преферанс.
Шавки кинулись к Генке. Генка повел плечами, Шавки с опаской отступили.
- Ого! – обрадовался Преферанс.
Мутно дыша, он приступил к Генке.
Им нужен был Генка. Не знаю, почему. Генка был обычный парень, троечник. Добродушный и неагрессивный.
- Сейчас бить его будете?
Это я спросил. Жалобно и негромко. Чтобы Генка не услышал.
Он и не услышал. Его уже отвели в сторону и дали по губам. Генка ответил, но ему звезданули еще пару раз, повалили на снег.
Потом Преферанс с шавками ушли.
Генка вытер губы снегом, послал дурней куда подальше. И мы с ним пошли опять. Тихо и мирно пошли по мартовскому снегу под небом, где звезды корова языком слизала.
Я струсил. Не в первый и не в последний раз. Но тот случай с Генкой я не забуду никогда. Он поднимается с мартовского снега и смотрит на меня. То ли – вопросительно, то ли - безразлично. Губы в крови, но кажутся черными. И он их облизывает, а потом уж вытирает ладонью. Как Глеб сейчас.
Невеселая история? Только я кое-что запамятовал. Было по-другому.
17.
В пятом классе меня не избили. Не избили меня ни в шестом, ни в седьмом, ни в восьмом, ни в девятом, ни в десятом. А в одиннадцатом меня уже не могли избить, потому что тогда одиннадцатого класса не было.
Однажды я шел по мартовскому снегу. Рыхлому и беспечному. Сквозь проплешины снежные прорастали какашки и пачки «Примы». Шел я по снегу и придумывал себе судьбу.
Так или эдак? Эдак или так? Плям или плюм?
И тут я столкнулся с девочкой. Между прочим, изумительной. Она посмотрела на меня гневно и сначала ничего не сказала.
А я – сказал:
- Извините.
Девочка надула губы, сморщила нос и произнесла заветное:
- Смотреть надо, куда идешь.
А потом почавкала по мартовским пророслям все дальше и дальше. Углубляясь в свою непростую судьбу.
Я постоял еще какое-то время. И хотя с виду я казался безразличным и готов был растоптать очередную взопревшую мартосль, душа моя стремительно вращалась вокруг девочкиной оси.
И я подумал о том, что придумывать свою судьбу – не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд.
Даже изумительные девочки не всегда способны отличить растерянную судьбу от досадного дерьма.
А Глеб вот – не растерялся, смог, отличил.
18.
Глеб изящно повел черничной рукой. Линолеум оросило черничным дождиком.
Я посторонился.
Глеб церемонно поклонился мне и прошел в совмещенный санузел. Я подцепил капельку джема. Черничное, без сомнения.
Я встал в проеме санузла. Глеб сидел на краю ванной и медленно смывал с себя черничный грим.
- Глебушка, обедать. И друга своего прихвати.
Глеб повернул ко мне отмытое лицо.
Я отрицательно покачал головой.
- Чай, - пояснил я и провел ладонью на уровне рта. – Нахлебался досыта.
Глеб качнул плечами и поплелся на кухню.
- Здравствуй, мама, - услышал я меланхоличный голос. – Это ты меня черничным вареньем облила?
- Я, Глебушка, я.
- Что ж не калиновым?
- Друг твой все калиновое скушал.
Послышалось звяканье ложки о тарелку. Засвистело. Я прямо видел, как Глеб сложил губы трубочкой и потянул в себя супчик.
- Горячо, Глебушка?
Фьюить.
- Хлеба надо ли?
Фьюить.
- Солёно ли?
Фьюить.
Я все стоял в прихожей, понимая, что обо мне забыли. Но уходить было рано. Я затруднялся с ответом, вывел ли Глеба на чистую воду. Пожалуй, это следовало уточнить. Я решительным шагом пересек первую комнату и вошел во вторую, поменьше.
Стол, стул, кровать и несколько книжных полок. Полированный стол был необыкновенно чист. Ни пылинки. Я провел пальцем по краям – идеальная чистота. Ровно в центре стола располагался ноутбук. Кровать – вышколена. На книжках полках – стихи советских поэтов и какие-то инженерные пособия.
По подоконнику неторопливо полз таракан. Я занес над ним указательный палец. Таракан, заподозрив неладное, остановился и зашевелил усами. Повернул голову в сторону окна. Увидел сизое облако и помрачнел. Белый подоконник, сизое облако за окном – каждый день одно и то же. Таракан покосился на мой палец. Похоже, убьют? Не лучший день в жизни.
Минуту назад я слизывал с указательного пальца черничное варенье. Мне отчего-то не захотелось убивать таракана этим пальцем. Он был зарезервирован для другого дела. Палец, а не таракан. Я согнул указательный и выставил средний. Вышло еще хуже. Послать таракана, а потом – прихлопнуть – это мерзко. Он заслуживает лучшего. Как же нелегко принять решение даже о таракане. Что уж говорить о себе? Пока я портил себе настроение, таракан пополз дальше. Перебрался на батарею, и побежал быстрее. Лапкам горячо, догадался я. Таракан дополз до батарейного рубчика и свалился в преисподнюю. Бряк. Я перегнулся через стол, чтобы заглянуть за батарею. Таракан раскачивался в паутинном гамаке. Похоже, веселился.
В комнату вошел Глеб.
19.
- Развлеклись?
Ишь, ты. Приободрился, порозовел. Отвел душу на мамином супчике.
- Не пойму, вывел я вас на чистую воду или нет.
- Шли бы вы отсюда. Всю калину подъели, - сказал Глеб, заглянув за мое плечо.
Я обернулся. Никого.
- Глеб, вы кого-то прячете за батареей? Не таракана ли!
- Мне работать надо, - сухо сообщил Глеб и включил ноутбук.
- Составляете психологические портреты подозреваемых?
Лицо Глеба сморщилось.
- Вы Лене не скажете? – спросил он с горькой надеждой.
- Непременно скажу.
Глеб зажал лицо ладошками и затарахтел: впервые в жизни он встретил женщину – полумесяцем бровь, на щечке – родинка, а в глазах – сомнение.
- Сомнение! – важно промолвил Глеб и поднял указательный палец.
Я отметил широченные лунки на ногтях Глеба. Как у даосских бессмертных.
- Вы прямо Люй Дунбинь, - сказал я.
- Кто это? – встрепенулся Глеб.
- Неважно. Кстати, девичья фамилия папы не Журавлев?
- Как это – девичья?
- Всякое бывает. Вы не похожи на Бузявина.
- Я – Журавлев.
Я возликовал.
- Отец – блондин?
- Пепельный. Дайте досказать.
- Валяйте. Вы встретили мою жену. Бровь ятаганом. В глазах – сомнение. Так?
- Вот вы смеетесь, а мне горько стало. Женщина – чудо, идет – так, знаете… - и Глеб пошел по комнате, показывая, как ходит Лена. Очень похоже. Я слегка возбудился.
- Глеб, не отвлекайтесь.
- Хорошо. И мальчонка такой милый… я про вашего сына. Доверчивый мальчик. Нежный.
Мне захотелось ему врезать.
Я сжал кулачок, развернул его к себе, выставил костяшки. Взгляд упал на лунки. Лучше бы не смотрел.
Кулачок разжался.
- Глеб, можно я полежу на вашей вышколенной кровати?
- Вот не стоит.
- Глеб, у меня сердце бьется чересчур. Я бы не сказал, что мне хорошо.
- Семен, вы мне неприятны.
- Нашли, чем удивить.
Я справился с приступом тошноты, сглотнул.
- Уступите мне Лену, - произнес Глеб с нажимом.
Смотрел он нехорошо. Вроде бы и жалобно, а со знанием дела. Где бы урвать кусок. Хищник.
- Глеб, вы поработать хотели. Смотрите, у вас скайп дымится.
И тут я увидел его ник. Сычик-горлопан. Знакомый ник.
- Глеб, вы меня по голосу не узнаете?
Он присмотрелся ко мне. Попилил переносицу, поелозил по ушам, застонал:
- Вы…
Сычик-горлопан – средней руки копирайтер. Но быстрый и исполнительный. Я частенько с ним работаю. Минимум разговоров – максимум дела.
- Вы – копирайтер, Глеб, - я наслаждался триумфом. - Вы никакой не криминальный психолог. Вы – копирайтер, причем не самый лучший.
- Зато исполнительный, - возразил Глеб.
Я утомился. Иппон. Чистая победа.
- Оставьте мне Лену.
Паршивый зануда.
Мне захотелось величаво порассуждать.
- Видите ли, Глеб, понимаете ли. Уважаемый Глеб Люйдунбинович…
- Моего папу зовут Захар.
- Видите ли, Глеб Захарович.
- Отдайте мне Лену. Пожалуйста.
Сплошные иппоны. Один за другим. Тоска.
- У вас за батареей раскачивается таракан. Он попал в тиски своего эго. Он думает, что качается, словно в гамаке, а ведь где-то ползет паук.
- Паука я позавчера убил. Таракана собирался сегодня.
- Глеб, вы – виртуоз. Вы расчленяете насекомых, как свою сущность.
Я нес какую-то чушь.
Глеб жевал пустоту и смотрел мимо меня.
- Глеб, Глеб, вы будете сидеть у этого ноутбука, как сычик и горлопанить еще десять, двадцать, тридцать лет. А там, - я махнул рукой за окно, - ходят томные женщины. И ни одна к вам не тянется, вот беда!
Он угрожающе выпятил грудь в мою сторону. И вдруг вытянулся в струнку, как висельник.
- А знаете, - сказал он шепотом, - я тут вообразил только что. Вдруг кто-то сейчас видит нас. Наблюдает. И существуем-то мы только потому, что ему захотелось.
- Чего ему захотелось?
- А он и сам не знает, Семен. Живет человек, происходят какие-то процессы. А порой нестерпимо хочется…
- Где-то я это слышал.
- Не важно. Хочется, понимаете? Нестерпимо.
- Надо осознавать свои желания.
Я испугался. Передернулся, поежился. Подошел к окну, распахнул форточку. Рванул март. Другая весна.
- Может, и нам захотеть, Глеб – спросил я с истеричными нотками. – Нестерпимо.
- А как, Семен? Как хотеть нестерпимо!?
Мы смотрели друг на друга и меркли на глазах. Он – на моих. Я – на его.
Глеб всхлипнул. Я похлопал его по плечу и отправился в коридор. На кухне Бузявина высовывалась в открытое окно.
Я вышел на площадку и строго закрыл дверь.
- Хочется? – спросил я себя.
И похолодел от страшной догадки.
20.
Собраться.
С.
Мыслями.
Спуститься.
По.
Лестнице.
Выйти.
Во.
- Вовенарг придерживался той точки зрения, что добро полезно всем членам общества. Понимаешь, Сергей? Всем членам, а не только одному.
Напротив двери стоял понурый Сергей. Его теребила за пуговицу полная женщина. Пуговица почти оторвалась, и Сергей только хмуро посматривал на тощие нитяные косицы. Под мышкой у женщины была зажата болоночья голова. Ноги и хвост свешивались по ту сторону локтя. Болонка нерегулярно болтала ножками.
- Извините, мадам, - вмешался я в разговор, - мне кажется, что вашей собачке несколько некомфортно.
Не отрываясь от пуговицы, женщина перевела взгляд на меня.
- Нина Алексеевна, это мой друг Семен. Семен, это Нина Алексеевна, моя теща.
Сергей смотрел так, будто его тоже зажали под чьей-то подмышкой.
- Молодой человек, - с расстановкой произнесла Нина Алексеевна, - вы слышали о Вовенарге?
- Знаком, - мгновенно ответил я. – Более того, каждый день доказываю ему (я ткнул пальцем в пуговицу Сергея) примат общественной пользы над эгоистическими воззрениями. Добро, полезное одному, становится злом. Зло – бессовестный эгоизм, Нина Алексеевна. Следует обуздывать свое эго.
В течение нескольких секунд Нина Алексеевна обдумывала мою речь, затем заключила меня в объятия.
Болонка шлепнулась в лужу. Пуговица Сергея повисла на нитке.
- Вы… только вы, - малосвязно бормотала Нина Алексеевна. – О таком зяте я мечтала всю жизнь.
- Да, Нина Алексеевна, - сказал я, мягко отклоняя женщину от своего лица. – Простите, Нина Алексеевна. Мне нужно на лекцию. Я читаю сегодня лекцию о… - пришлось поднатужиться, вспоминая мерцающие в памяти имена, – О Лелюше.
На лице Нины Алексеевны появилось недоумение.
- О Ларошфуко?
- И о нем тоже. По-моему, собачку сейчас стошнит.
Я почтительно поклонился и двинул по аллее. Не сводя глаз с горизонта. Он мелькал между массивами кирпичных домов. Яростный и золотой. Может, то был рекламный транспарант или растяжка, призывающая на распродажу. Не важно. Я видел горизонт.
21.
Я шел к папе.
Однажды я прочитал, что проблема многих мужчин – отсутствие прямых отношений со своими отцами. Между сыном и отцом всегда стоит женщина. Жена. Мать. Иногда теща. Потом – жена. Любовница. Дочь. Еще одна любовница. Коллега. Соседка. Не будем углубляться.
Задача каждого мужчина – наладить эту связь. В книжке давались полезные советы. Придите к отцу, когда мамы не будет дома. Сесть. Выпить чаю. Поговорить по душам.
Я не вполне понимал, что это значит, но попробовать хотелось.
Поражал меня папа неоднократно. В детстве я с родителями постоянно ездил в южные санатории. В одном санатории папа выиграл шахматный турнир. В другом – теннисный. В третьем был признан лучшим волейбольным нападающим. В четвертом - боролся за справедливые выплаты по итогам игры в сочинку, съездил по физиономии какому-то начальнику и нам грозили выселением. В пятом он завел любовницу, подрался с Нептуном, больше всех отжался от пола и сломал лодыжку на танцплощадке.
С папой было весело. Но я рос, и папа стал отдаляться. Надо было его вернуть.
Когда я пришел, папа смотрел телевизор. Новости. Папа полулежал на диване и почесывал подбородок.
- Привет, папа. Где мама?
- Ты же знаешь, что в понедельник она ходит в баню. С подругами, - нервно произнес папа.
Он не жаловал маминых подруг.
- Давай поговорим? – предложил я, присев на диван.
Папа покосился на меня.
- Ну, давай, - сказал он, перевалился на другой бок и наморщил лоб.
Он слушал мнение обозревателя о волнениях в Джакарте.
Я посидел пару минут, пошел на кухню, заварил чай, разлил в чашки, принес, выпил, посидел пару минут, пошел на кухню, перекусил, вымыл посуду, подогрел папе чай, пошел в туалет, убрал за кошкой, посидел пару минут, подошел к окну, пощекотал мамин кактус.
- Пап, вот ты как думаешь, сходиться мне с Леной или нет?
Глупее ничего нельзя было придумать. Но я и не придумывал.
Папа выключил телевизор и отхлебнул остывшего чая.
- Остыл, - поморщился папа. – Что ж ты холодный пил?
- Давай нагрею.
Папа махнул рукой.
- Решай сам, сын, - произнес папа задумчиво. – С одной стороны, сойтись с Леной не мешало бы. А с другой, - зачем сходиться, если это может тебе помешать?
Обожаю отца за точность формулировок.
Я нагнулся и поцеловал дрогнувшего отца в макушку. Как он целовал меня в детстве.
Папа вздохнул и улыбнулся.
- Так о чем ты хотел поговорить?
Но я уже надевал пальто и хлопал дверью.
Папа подмигнул мне и перевалился на другой бок. Начинался биатлон.
22.
Грустно мне было. Я считал белых измученных карликов. Меня научила тетя Женя. Когда тебе грустно, отрок, говорила незамужняя, бездетная, влюбленная в меня тетя Женя, всегда считай белых измученных карликов.
Я сопротивлялся поначалу.
- Зачем же, - спрашивал, - непременно белых? Отчего – измученных?
- А затем, - отвечала тетя Женя, - что они – несчастные. Им очень хочется, чтобы их кто-нибудь посчитал. Согрел улыбкой.
Я забирал ногами мутную слизь, согревал улыбкой карликов. Те согревались неохотно. Морщились, хмурились, сучили маленькими ножками.
- Не сучите, - просил я их, - считать трудно.
И – нате вам, услышал:
- Такой с виду интеллигентный молодой человек, а ругается матом.
Это бабушка с усиками Кларка Гейбла говорила своему пубертатному внуку. Внук одной рукой подхватывал бабушка за локоть, словно дама – кавалера, а в другой нес чехол. Длиннющий! Удочки, что ли?
- Бабушка, - сказал я, лаская взглядом усики, - Я не ругаюсь. Я белых изнуренных карликов считаю. Первое средство от грусти.
- Правда? – обрадовалась бабушка. – Это же совсем другое дело! А первое средство от серости знаете?
- Вовенарг? – предположил я.
Бабушка порозовела, отцепила внука и хлопнула в ладоши.
- Молодой человек! Вы не устаете меня поражать!
- Устаю, - признался я. – А что этого у малого в чехле? Удочки, что ли?
- Ну, какие еще удочки, - возмутилась бабушка. – Это диджериду. Покажи, Софочка.
Пубертатный внук превратился в юную девушку. Она подняла на меня… ну да, серые глаза. И потянула из чехла что-то невероятно длинное, легко изогнутое, расписное. Она тянула и тянула это что-то, перехватывая чехол все ниже и ниже. Время вздохнуло и улыбнулось. Как папа. А полузабытые мартовские прохожие брели сквозь нас, будто сквозь эвкалиптовую чащу и не заметили ни первого вдоха, ни последнего выдоха. Музыка принялась. Принялась за меня - потянула за горло, растерла виски. Март расправил плечи и вытянулся журавлем. Поплыли белые тени, рваные голоса. Я увидел на миг молочные пустоши и пустынные гавани. И померкло все. Ушло в рыдание. Затаилось в раструбе.
- Великие мысли рождаются в сердце, - сказала бабушка. – Это диджериду самого Лелюша.
- Лотофага? – переспросил я смущенно.
- И его тоже.
23
Было полпятого. Поздновато для Выхино. Как ни крути, а полпятого – не лучшее время для Выхино. Одно из худших. Но утро для Выхино тоже было не лучшим временем. Кажется, что для Выхино не было хорошего времени.
Надо было на что-то решаться.
Я увидел Лену. Она шла разнузданной походкой. Вызывала на откровенность. Каждая порядочная женщина должна время от времени ходить разнузданной походкой. Я сделал шаг навстречу бывшему, но у меня зазвонил телефон.
Демидов, будь он неладен.
- Кто говорит, - заорал я в трубку. – Ничего не слышу! В пробке торчу.
- Да ладно вам, - раздался на редкость умиротворенный голос Демидова. – Нигде вы не торчите, поскольку машины у вас нет. У вас и прав-то нет. И фордик вы супруге оставили.
- Ну ладно, не торчу. Нет. Оставил. Вам-то - какое дело?
- Не грубите, не поможет. В Выхине были?
Я замялся.
- Ну, так не спешите. Выхино – это такая субстанция. Никуда не денется.
- А что же мне делать? – спросил я наивно.
- Вы идете правильным путем. Хотя и медленно. Присматривайтесь. Беседуйте с людьми. Нервируйте их.
- Что, что?
- Будьте как дома.
И повесил трубку. Девидов был безумен. Или играл в безумие. Если бы не Гровер Кливленд…
Раритетные доллары и десятимиллионный посул были ни при чем. Я бы все равно взялся за эту работу. Но бесплатно работать – противно моей природе.
Лена ушла. Даже след простыл. Я бросился через дорогу туда, где увидел ее. И увидел прямо на моих глазах остывающий след. Мутная вода в лужице колебалась пару мгновений, а потом замерла.
24.
Не пойти ли в кино?
Пожалуй, лучше поспать. Пойти домой и лечь спать.
Но спать можно и в кино.
Тысячи людей спят в кино. Спят дома. Спят на улицах. Спят на работе. Спят за едой. Спят за учебой. Спят, когда занимаются. Продолжают спать, когда прекращают заниматься.
Я представил, как возвращаюсь домой, ем сосиски вперемешку с китайской лапшой, запиваю двумя бутылками пива, и ложусь спать. Китайская джонка сна несет меня. В желудке веселится сосиска и лапша. Они плещутся в пивном озере. Сосиска недовольна пивным волнением.
- Сегодня – ветрено, - сообщает она лапше.
- А ты – тихохонько, тихохонько, - советует лапша и посмеивается, воображая себя угрем в железной бочке.
Я видел такую бочку у своего приятеля. Она стояла на приусадебном участке. Крепкая железная бочка, перехваченная обручами. Я наклонил голову над водой. Водомерки, ряска, на ржавчине - слизни.
Вдруг я ощутил взгляд. Из бочковой глубины смотрела на меня черная змея. Она оскалилась и ушла на дно.
- Это угри, - пояснил приятель. – Им нужен хороший уход. Я их пивом пою.
И он вылил бутылку «Жигулевского» в бочку.
25.
Я стоял около крепенького двухэтажного домика, огороженного забором. На калитке висел лист картона с надписью: «Хорошее кино. Только сегодня в 17.00. Бесплатно». И чуть пониже – «Гнедая лошадь, жокей, его конюх и ее любовник». Режиссер – Аркадий Аи.
- Вы идете? – меня легонько подталкивал красноносый дядюшка с благообразным лицом.
- О чем кино?
- Кино - арт, - объяснил дядюшка благосклонно, - Арт-хаус.
- Хорошее?
Дядюшка смотрел на меня с жалостью.
- Очень. Очень хорошее. Вам понравится.
Я вошел в тесную прихожую, сбросил куртку, передал юркой старушке. Она подмигнула меня, забрала куртку и передала номерок с номером «55».
- Проходите в зал, - застенчиво сказала старушка. – По лесенке и направо. Я вижу, вы у нас впервые.
- Часто здесь кино показывают?
- Каждый понедельник. Кинохаус!
Бабуля испытывала гордость за родной кинозал.
Я поднялся на лесенке, свернул направо и очутился в небольшом зале с натянутым на переднюю стену экраном. Из узкой щели на задней стене мерцали желтые лучи, там же маячили тени.
В зале уже было человек тридцать. Без попкорна. Все сосредоточенно уставились на пустой экран. Свет погас. Застрекотал проектор.
На экране появилась гнедая лошадь. Она задумчива ела. Минут пять оператор показывал поочередно слезящийся глаз и пучки сена, исчезавшие в лошадином рту. Глаз был явно подмонтирован. На общем плане лошадь выглядела довольной. Она прядала ушами и помахивала хвостом.
К лошади подошел пожилой жокей. Я сразу понял, что это жокей. Одет как жокей и походка подходящая. Он обнял лошадь за холку и сказал: «Здравствуй, Бешбармак». Гнедая лошадь осмотрела жокея заплаканным глазом, но от сена не отреклась.
Затем в роскошном интерьере появился конюх. Весьма привлекательная особа с грудью пятого размера. Она переходила из комнаты в комнату, скидывая манатки. Комнаты были разноцветные: красная, оранжевая, желтая и так далее. Дойдя до последней комнаты, дама осталась в хлипкой полоске фиолетовой ткани. В комнате ее ждал любовник – свирепый казах, тянущий кумыс из белоснежный пиалы.
Экий эстет этот Аи, думал я, в течение трех минут разглядывая, как красавица ломала бисквит над белоснежным бедром.
- Май настал, - сказал казах и взмахнул пиалой, как мечом. – Пора делать бешбармак.
Красавица закрыла лицо руками. Казах принялся ее целомудренно утешать. Тут вошел жокей и начал утешать казаха.
Насколько я понял, казах был родной сын жокея, а конюх – его приемная дочь. Между ними возникла страсть. Но на посту страсти стоял строгий папа и некоторые национальные традиции. Сын уговаривал отца не отрекаться от традиций и сделать бешбармак. А также карта, казы, шужук и чучук.
Человек десять к тому времени уже покинули кинозал. Позади меня сидела юная парочка. Тягуче целовались, совершенно не интересуясь тем, что происходит на экране. Но вдруг я услышал всхлипывания.
- Они хотят лошадку съесть! – пропищала девушка. – Вот уроды! Пойдем отсюда, Артур.
Артур тяжело сопел. Ему не хотелось уходить. Он ерзал на стуле, хлопал коленками. Но девушка была непреклонна.
- Все вы такие, - подвела она итог. – Всем бы вам бы… бешбармак поскорее.
Девушка рванула к выходу.
- Лизок! Бэйби! – и Артур поковылял за сбежавшей невестой.
Признаться, и мне было тошно. Лучше уж домой – к сосиске, лапше и пиву.
И только я начал подниматься, как сеанс был прерван. Вспыхнул свет. На сцену поднялся знакомый благообразный дядюшка и, всплеснув ручками, сказал:
- А теперь, когда случайные лица покинули нас, пора открывать заседание клуба самоубийц.
И открыл.
26.
В кинозале осталось шестнадцать человек. Считая добродушного председателя, который несколько раз хлопнул ладонями по коленкам.
- У нас - новички, - сказал он и радушно улыбнулся скучной пожилой женщине, юнцу с лицевым тиком и мне.
- Я не хочу умирать! – заявил юнец. – Вы что, с ума посходили? Какие еще самоубийства? Что за бред? Стивенсона начитались. Да я в полицию сейчас.
У юнца тряслись губы. Выглядел он крайне испуганным.
- Молодой человек, - строго сказал председатель. – Выслушайте, а уж потом воркуйте. Вы трое в лукавый мартовский вечерок не домой идете, а шатаетесь по улицам. Именно – шатаетесь! Замечаете сомнительное приглашение на непонятный киносеанс. Объявление дрянное, название вообще не подлежит рациональной критике. Начинается фильм. Уже через десять минут всем понятно, что фильм – за пределами добра и зла. Никакие нравственные и эстетические категории к нему неприменимы. Но вы продолжаете смотреть это лютое непотребство. Вывод сделайте сами.
- Я бородинский хлебушек искала, - тихо-тихо сказала скучная женщина. – И вот согреться пришла.
- А я… я просто вот фильмы люблю. Харт-аус, - запальчиво произнес юнец.
Пятнадцать пар глаз уставились на меня.
Я картинно задумался. Уже разобравшись, в чем дело, решил подыграть председателю.
- Да, вы правы, - сказал я сосредоточенно и печально. – Вы бесконечно правы. Я бесконечно одинок. Я шел по улице, по бесконечной улице и искал прибежища. Мне совсем некуда идти. Мне не хочется никуда идти. Мне ничего не хочется.
- Вот! – возликовал председатель. – Позвольте пожать вам руку, бесконечно мужественный вы человек.
Пожилая женщина опустила голову и горько заплакала. Ее обхватили за плечи с двух сторон две дамы средних лет.
Парень пригорюнился. Съежился. Двухметровый громила потрепал его шевелюру.
- А теперь пора объяснить, в чем дело, - мягко сказал председатель. – Все мы когда-то были самоубийцами.
Он величаво обвел рукой собрание и продолжил.
- Каждый, кого вы видите в этой комнате, забрел однажды в этот родовой особняк. Мой особняк! – пояснил он, смиренно возвысив голос. – А клуб самоубийц – это просто другое название «Клуба одиноких сердец революционера Чернобоя»
- Михрюткина Алексея Палыча? – вдруг спросила пожилая женщина, утирая слезы платочком. – Разве этого его дом?
- Да, легендарный революционер Михрюткин широко известен под кличкой Чернобой. И родился он именно в этом доме. А я – правнук Чернобоя.
Взволнованный председатель вскочил со своего места и стал прокладывать сложный маршрут между стульев.
- Однажды ко мне пришла жена. Да-да, - не ушла жена, а именно – пришла. Наши отношения к тому времени истончились до крайней степени. – Председатель меленько потер друг о друга большой и указательный пальцы. – Истончились, иссушились и вызывали у меня резкое неприятие и – да, к чему скрывать! – депрессию. И когда жена пришла, я подумал, что близок к самоубийству. А жена все не уходила, не у-хо-ди-ла! И тогда я решил повеситься прямо на ее глазах. А дело было в июне. Перед домом на веревке сушилось белье, которое я выстирал собственными руками.
Председатель приложил пальцы к пухлым губам, а затем, с резким чмоком, отдернул их.
- Я сбросил белье на землю и стал сматывать веревку.
- Зачем сматывать? – удивился юнец.
- А что же, мне ее несмотанной в дом тащить? Странный вы человек! На улице смотал, в доме размотал. Зацепил конец за люстру, повесился, насолил жене. Чего тут непонятного? Вы лучше не перебивайте, а слушайте. И вдруг вижу я с табуретки, как по улице идет Марфа Константиновна.
Председатель глубоко поклонился пухленькой дамочке, взиравшей на председателя с обожанием.
- А у Марфы Константиновны в руках веревка – ну, точь-в-точь, как моя. И смотрим мы друг на друга, и потрясаем основы собственного существования, - председатель сжал кулаки и потряс ими словно маракасами. - Родственные души, понимаете? Оказалось, что часом раньше к Марфе Константиновне пришел ее муж! Всю душу измотал. Пошла она в магазин, купила бельевую веревку и… Тут мы и встретились.
- Можно я продолжу, Иннокентий Игнатьевич? – попросила Марфа Константиновна.
Правнук легендарного революционера всплеснул ручками. Потянувшись к родственной душе, он сложил губы трубочкой. Марфа Константиновна тоже сложила губы трубочкой. Они еще немножко потянулись друг к другу, удлиняя трубочки. Потом Марфа Константиновна повела головой налево, а Иннокентий Игнатьевич, ведомый ее трубочкой, опустился на свой стул.
- Мы решили, - сказала Марфа Константиновна, - собирать расточенное. Мы организовали киносеансы самых скучных фильмов, которые никто не смотрит, кроме тех, кому некуда идти, незачем идти, не к чему идти, не от чего идти, не с чего идти…
Марфа Константиновна порозовела от длинной фразы и перевела дыхание. Однако продолжить не успела.
- Так мы обрели наших друзей! – не выдержал председатель.
Марфа Константиновна укоризненно посмотрела на него, но у Михрюткина случилось упоение.
- Теперь вы - наши друзья! – возликовал он. – Вы больше не одиноки!
Он схватил одной рукой пожилую женщину, другой – юнца, и потащил на всеобщее обозрение. Меня он манил взглядом. Делать было нечего – я вышел за ними.
Все рассыпались по сторонам, засуетились, послышались разговоры о чае.
Ко мне подошел хитрованского вида старичок. Блаженно сощурясь, он сообщил:
- Сейчас будем играть в фанты.
- Сначала – час художественной самодеятельности. Все показывают свои таланты, – заявила Марфа Константиновна, обладающая, очевидно, поразительно чутким слухом. - Что вы умеете делать?
- Чай пить, - сказал я. – Водку.
- Шутка. Прекрасно. Вижу, вы отогреваетесь, - одобрила собеседница.
Я посмотрел на часы. Половина седьмого. День не собирался заканчиваться. Он даже не заканчивал собираться.
В гостиной все погрузились в кресла, и те, ощутив возложенную на них ответственность, затрепетали.
Я тоже примостился в желто-зеленом кресле с массивными подлокотниками из, предположим, карельской березы.
Собрание затаилось. Помалкивало, отмалчиваясь. Иннокентий Игнатьевич и Марфа Константиновна расположились по бокам сцены, слева и справа. Сидели они в громоздких креслах из дорогой, как будто, кожи мраморной расцветки. Кресла эти стискивали круглую сцену с двух сторон, как клещи обхватывают орех.
- Пусть Кандаков начнет, - пронеслось и затихло.
27.
Но тут же принялось с новой силой.
- Кандаков начинает! Пусть начинает Кандаков! Пусть! Начинает! Кандаков, начинай уже!
Где-то позади меня крякнуло кресло, кто-то поднялся, полез вперед с прибауточками:
- Извини, простите. Где ваша не пропадала, там наша не пройдет. Ой, ваши ножки, как три пуда картошки. У вас случилось непроходимость. Расцепите ручки, я пройду до той кучки.
И так далее.
Кандаков оказался белобрысым и остроносеньким господином. Он слащаво улыбался, раскланиваясь с ужимочками во все стороны.
- Выступайте, Кандаков! – приказала Марфа Константиновна.
Кандаков рассказал пару бородатых анекдотов. Все хохотали и рукоплескали.
- Здорово изображает! – восхищенно орал бородатый господин слева от меня.
Оказалось, что Кандаков вещал голосами Лещенко, Пугачевой и Кобзона.
После Кондакова в круг выскочила бойкая дамочка. Она повязала цветастую косынку, подмигнула, притопнула, шлепнула себя по бедру, объявила: «Русская плясовая», и понеслась мелким бесом по кругу.
Женщины завопили: «Ути-ути-ути-ути, ути-ути-ути-ути, ути-ути, у-тя-тя, ути-ути, у-тя-тя».
Пока женщины набирались сил, в дело вступили мужчины-теноры.
Эти голосили иначе: «Бути-бути-бути-бути, бути-бути-бути-бути, бути-бути-бу-тя-тя, бути-бути-бу-тя-тя».
- У вас баритон? – захлебываясь от восторга, спрашивал у меня бородатый господин. – Сейчас наша очередь!
И тут вступили баритоны:
- Бати-бати-бати-бати, бати-бати-бати-бати, бати-бати-ба-тя-тя, бати-бати-ба-тя-тя!
И вновь – ути, затем - бути, следом - бати, и так пять или шесть раз. А бойкая все неслась, притоптывала и прихлопывала, помавала бедром, подкидывала плечиком. И вдруг выскочила на середину круга, поднесла палец к губам и закружилась веретеном.
Тут уж грянули одновременно и женщины, и тенора, и баритоны с басами.
- Во дает, Пучкова! Во, дает. Во! Во! Во!
Я тоже подкинул кверху большой палец, сказал «Во!»
- Теперь новенькие, - сказал Иннокентий Игнатьевич. – Покажите, покажите, на что вы способны.
- Не рано ли? – засомневалась Марфа Константиновна. – Пусть еще посмотрят. Войдут в струю. Попривыкнут.
Она ласково посмотрела на пошедшего пятнами юнца, оценивая, вошел ли тот в коллективную струю.
- Можно мне? Можно? – ерзал лысоватый мужчина.
Он тянул вверх руку и подпрыгивал на кресле.
Марфа Константиновна и Иннокентий Игнатьевич его сначала как будто не замечали. Потом Михрюткин перевел на мужчину утомленный взор и сказал:
- Да, пожалуйста, товарищ Савраскин. Выступайте на здоровье.
И, скорчив недовольную физиономию, откинулся в кресле.
Савраскин вскочил, откашлялся и объявил:
- Песня «Наш край». Слова Антона Пришельца. Музыка Дмитрия Кабалевского. Исполняет Максимилиан Савраскин.
И запел. До чего же гнусно! Я даже не подозревал, что можно петь настолько противно. Почтенное собрание скисло и помрачнело. Все отворачивались от закатывающего очи Савраскина. Тот не замечал ничего. Он грассировал, тянул звуки, где было не надо, глотал там, где следовало тянуть. Он подвывал, отхватывал такие тремоло, что у моего соседа слева начались корчи. Я чувствовал себя не лучше.
Едва допев, Савраскин подбоченился и вновь простер руку.
Но Михрюткин его опередил:
- Благодатная струя господина Савраскина а также других выступающих (и он похлопал в ладоши) конечно, оросила наших новеньких. Просим! Просим!
Савраскин злобно покосился на председателя, притопнул каблуками и отправился на насиженное место.
- Я хочу! – вдруг объявила пожилая женщина, та, что забрела на киносеанс, утомленная поисками бородинского.
И, без всякой подготовки, с места в карьер, запела тоненьким голоском:
- Ты сегодня мне принес не букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии…
Собрание замерло на мгновение, а затем дружно подхватило:
- Ландыши, ландыши, светлого мая привеееет! Ландыши, ландыши, белый букет…
Все дружно покачивали головками, воображая себя первыми ландышами. Даже Савраскин смягчился. Он шевелил губами, угадывая куплет, а припев тянул за милую душу.
Пожилую женщину объявили настоящей находкой, народным достоянием клуба одиноких сердец и обстоятельно расцеловали.
Настала очередь юнца.
- Может быть, стихи прочитаете? – предлагала ему Марфа Константиновна. – Мне кажется, вы очень хорошо читаете стихи. Что-нибудь из школьной программы.
Тот долго мялся под одобрительными взорами. Потом я заметил недовольное перемигивание. Затем - скучающие зевки. Наконец, юноша решился.
- И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою! – хриплым голосом сказал парень.
И опять замолчал. Поклонился. И, весьма довольный собой, плюхнулся в кресло.
- Ну, ничего, ничего, - успокаивала собрание Марфа Константиновна. – В следующий раз молодой человек – как вас?...
- Себорей.
- Как, как? Себо… Кхм. Мы будем звать вас Борей. В следующий раз Борис прочитает нам более длинное стихотворение. Правда?
Боря скромно потупился.
А потом все как-то разом повернулись в мою сторону. Делать было нечего, и я тоже взял, как бабуля, без разгона.
- Я расскажу вам сказку о снежинке – потаскушке.
И рассказал всю сказку от начала до конца. Воцарилось тягостное молчание. Все сидели и надрывно сопели. Не проняло, решил я. И тогда я рассказал им еще одну, придуманную на месте сказку. Вот такую.
28.
Сказка об Иване бессильном и Фекле бессистемной
Жил был Гидеон Спилетт. Он был коммивояжером, продавал всякую дрянь. Утюги там, электроприводы, леденцы с шоколадной начинкой. Дрянь, короче. Как-то пробирался он ночью по долинам и по взгорьям и наткнулся на маленький тощий домишко. А Спилетт не прочь был поужинать, да и переночевать где-то не мешало. И вот стучит он в окна и – что вы думаете? Открывается дверь немедленно и высовывается бодрый мужичонка в тулупе.
- Здравствуй, - говорит, - Гидеон Спилетт. – Давненько я тебя ждал.
- Откуда, - изумляется Гидеон Спилетт, - ты знаешь мое имя, да и фамилию впридачу.
- А оттуда, - объясняет мужичонка, - Гидеон Спилетт, я знаю твое имя, да и фамилию впридачу, что я Иван – бессильный. А у сильного кто всегда виноват? – Ну, то-то же. Так проходи уже в хату, не задерживайся.
Гидеон Спилетт ничего из объяснений мужичонки не понял, но в хату прошел.
Видит – тут женщина еще суетится. Юркая такая, вострая. На стол собирает. Пироги, щи, трюфеля с профитролями. Потчует Гидеона компотом из сухофруктов. Банан подсовывает, кушай, Гидеон, не стесняйся.
Гидеон и не думает стесняться. Налег он, как следует, да и заснул – прямо за едой.
Только уж в полудреме языком ворочает, спрашивает:
- Кто ты, добрая женщина?
- А я, - отвечает женщина, - я-то Фекла бессистемная.
- Ааа, - протянут Спилетт, да и утонул в здоровом, сытом сне.
Наутро просыпается, удивляется. Где это он?
Иван бессильный чего-то рубанком рубает. Фекла бессистемная на стол собирает, приговаривает:
- Сейчас завтракать будем, вставать пора.
Гидеон встал с кровати, потянулся, вышел до ветру. Смотрит – а кругом лес дремучий. Ни долин тебе, ни взгорий. Ветер качает макушки сосен и сосны скрипят тихонечко. Ласково скрипят: «Спи, Спилетт, спи».
Потянулся Гидеон от души, распрямил коммивояжерские косточки. Вернулся в избу. Позавтракал драниками да варениками, опять спать завалился.
День проходит, другой. Гидеон ест да спит. Изредка до ветру выходит. И все стоит, слушает, как ветер поет в вершинах сосен: «Спи, Спилетт, спи».
Как-то проснулся Спилетт ночь за полночь. И что его разбудило – не ведаю. Только слышит голоса Ивана и Феклы.
- Пора ему, - говорит Иван.
- Не пора, - отвечает Фекла.
- Давно пора, - настаивает Иван.
- Никак не пора, - утверждает Фекла.
Через силу поднялся с кровати Гидеон Спилетт, побрел к печке, откуда голоса слышались. Ан – видит: спят оба, Иван и Фекла. Примерещилось, что ли?
Вышел Гидеон до ветра. Слышит скрип сосен, да только какой-то другой, незнакомый. Скрипят сосны: «Спилет Спилетт, ой, спилет».
Потряс головой Гидеон, вернулся в избу, опять уснул.
А наутро после завтрака Иван бессильный подает ему пилу.
- Иди-ка, мил человека, - говорит Иван Гидеону, - попили-ка сосенки. А то – вишь, как заросло все. Неба не видно.
Повздыхал Спилетт, а делать-то нечего. Кто не работает, тот не ест. Кто не ест, тот сладко не спит. Кто сладко не спит, тому работать невмоготу. И так далее, опять по кругу.
Попилил Спилетт сосенки до обеда. Порубал до ужина. Так и пошло с тех пор – спит, ест, пилит, до ветру ходит. И – снова здорово.
Прошло еще сколько-то дней и ночей, и опять проснулся Гидеон ночь за полночь. Вновь – голоса.
- Пора ему, - говорит Фекла.
- Не пора, - отнекивается Иван.
- А я говорю – пора.
- Ну, пора – так пора.
Пока Гидеон к печке крался, те уж и спят.
Вышел Спилетт до ветру. А сосны уж и не скрипят. Скрипеть-то некому, попилил Спилетт все сосенки. Один ветер в тучах завывает: «Ууууу….убьюууууу».
К чему бы?
А наутро подает мужичонка Спилетту ножичек, да и говорит между блинками да творожниками:
- Убить бы надобно одного тут.
- Кого? – взметнулся Спилетт.
- Да одного, - утешает его Иван бессильный. – Сегодня – одного, завтра – одного.
Повздыхал Спилетт, а делать-то нечего! Пошел с ножичком по округе. Был коммивояжер, а стал душегубитель.
Проходит еще пара ли, тройка месяцев. И снова просыпается Спилетт посреди ночи и слышит бормотание Ивана да Феклы.
- Пора ему, - говорит Иван.
- Пора, пора, порадоваться, - соглашается Фекла.
Тут и подходить Гидеон к печке не стал. Понятно дело – примерещилось.
Вышел во двор. Ветра уж нет. Небо тучами заволокло. Тьма – бездетная, беззвездная. Вернулся Спилетт в избу, уснул до утра.
Наутро только завтракать собрался, а видит – стол-то и не накрыт. Сидят за столом Иван да Фекла и смотрят на Гидеона ласково.
- Давай, Гидеон, не робей, - говорит мужичонка и протягивает ему веревку да мыло.
А баба на крюк показывает в стене вбитый.
Побледнел Гидеон, потом пятнами пошел.
- А душа-то, - криком кричит, - душа-то живая! Что с ней будет!
Манит его Иван бессильный к себе, тычет в зеркало.
- Гляди-ка на себя в душеполезное зеркало.
Смотрит Гидеон на себя – тьма вместо души. Чернее вороньего крыла. Тьма тьмущая.
А мужичонкина душа в зеркале-то и не отражается.
- Кто же ты, паскудник? – спрашивает Гидеон Ивана, - что даже в зеркале не отражаешься? На тебе вина, довел меня до ручки.
- Бессильный я, - хихикает тот. – У сильного тебя всегда кто виноват? Ну, вот тот-то же.
Сказал, ухнул, да паром-ветерком вышел.
- Да как же, да что же! – кинулся Гидеон к бабе. – Ты-то что скажешь, проклятущая? Ты ж меня кормила, да спать укладывала.
- А посмотри-ка, чем ты питался, - хихикает Фекла, и хлопает в ладошки.
И предстает перед Гидеоном стол, накрытой снедью всяческой. Да что там за снедь! Слизь лжи, желваки страха, гниды порока, отбросы похотей, мусор безделья, вонь да тоска, мерзость да ненависть.
- Да откуда же! Откуда же, - застонал Гидеон и побежал к выходу.
Думал, озорник, что скрип сосенок, да песенку ветерка услышит. Запамятовал, видно…
- Бессистемно ты питался, Гидеончик, - объясняет баба.
- Да что ты мне давала, карга, то я и ел!
- А я-то кто? – удивляется баба. – Меня-то и вовсе не было.
Плюнула, дунула, оборотилась вокруг себя, да и вышла паром-ветерком.
Остался Гидеон Спилетт один-одинешек.
Подошел к крюку, подвесил один конец, намылил другой.
- Прости, - шепчут окаянные губы.
А кому говорит, кого просит – сам не понимает.
Схватился за голову, вдруг - слышит.
- Проходи, мил человек, в хату. Накормим, напоим, спать уложим.
Покачал головой Гидеон:
- Нет, дедушка. Дальше пойду. Путь неблизкий. Дойду ли – не знаю. А все ж – попытаюсь.
Улыбнулся дедушка.
- Иди, - говорит. – Дело хозяйское.
Пошел Гидеон по тропинке. Без вещей. Бросил их, надоели.
- А добро-то свое, - напоминает дедушка, - что ж оставил?
- Да говно это, - отвечает Гидеон. – Налегке пойду.
Дедушка кивает радостно.
- А как зовут-то тебя, дедушка? – спрашивает Гидеон.
- Иван сильный. А хозяйка моя – Фекла системная.
- Системный администратор, что ли? – смеется Гидеон.
- Точно! – смеется дедушка. – А я – экс мистер Олимпия 1974 года.
Неужто Лу Ферриньо?
Тут и сказке конец, - объявил я.
29.
Первым поднялся Кандаков.
- Идти мне пора, - сказал Кандаков угрюмо, - жена со смены придет, ужин хоть сготовлю.
Хотел еще что-то добавить, но передумал. Плюнул, пошел к выходу.
За ним – Савраскин.
- Модель фрегата с внуком собираем. Никак не закончим, - пояснил он, пристально глядя в глаза Михрюткина.
И ожесточился:
- Все пою, пою все.
- Идите, идите, товарищ Савраскин! – замахал ручками Иннокентий Игнатьевич. – Я не держу вас!
- А ты попробуй, задержи, - тяжело сказал Савраскин.
- Придете ли в понедельничек? – пискнул было Михрюткин, но был неприятно изумлен зарождающейся волной недовольства.
Подскочила Пучкова, за ней - подруги, вынесся из кресла егозливый старичок, взметнул указательный палец.
- Недоволен крайне! – выкрикнул он. – Хотя и беспредельно мягок, и смирен есмь, яко…
Пучкова его перебила:
- Пошли до дому, неча тут прохлаждаться.
- Яко, яко, - тянул старичок, - иждиваем свои дни в вертепе сумрачном под бесьи песни. Тьфу.
Никак, никак не ожидал я подобного эффекта от своей наспех придуманной сказочки. Что-то случилось с людьми. Они хмурились, ежились, друг на друга не смотрели, и тянулись, один за другим, к выходу.
Растерянный Михрюткин хватался за отвороты пиджака. С испугом поглядывал он на Марфу Константиновну, которая недвижимо восседала в кресле, прикрыв глаза.
- Марфа Константиновна, ась? – потянул Михрюткин. – Вы-то как?
Марфа Константиновна медленно потащила вверх тяжелые веки.
- Да, как, Иннокентий Игнатьевич, - сказала она нараспев, - ухожу я от вас. Побаловали – и будет.
- А как же я? Я-то как же? Одинок и тщедушен есмь, - забормотал он.
- Не так уж вы и тщедушны, Иннокентий Игнатьевич. Килограмм двадцать вполне могли бы сбросить. А касаемо одиночества, так его тут…
И Марфа Константиновна обвела рукой комнату.
- Хоть ложкой ешь.
Все ушли.
Я остался наедине с Михрюткиным.
- Что же вы наделали, - плаксиво начал он. – Я вас как человека пригрел, а вы, вы…
Я молчал.
Потом встал.
- Хоть вы не уходите! – попросил Михрюткин.
Я пожал плечами, вышел в гардеробную. Застенчивая старушка держала в руках мою куртку.
- Одевайтесь поскорее. И я тоже пойду.
- А вы разве не в обществе?
- В каком еще? Я тут на выдаче. Сынок просит подежурить.
- Иннокентий Игнатьевич – сын ваш?
- Конечно.
- А живете вы где?
Старушка объяснила, что живет «поблизости». Две остановки на автобусе, потом пару кварталов - туда, пару – сюда, еще дворами, через овражек – вот и дома.
- Дома?
- Дома, дома, - закивала старушка. – Бочажочек такой, баклашечка. Я там с бабушкой одной живу.
- А почему не с сыном-то?
Старушка воззрилась на меня с удивлением:
- А на кой я ему?
30.
Я вышел на улицу и поднял голову к небу.
Что-то шло. Шлепало по щекам. Залетало в нос. Щекотало уши.
Я переставлял ноги, задрав голову к небесному ковру. Снежный мартовский ворс летел на меня. Вместе с ворсом сыпались снежные клещи, и я брезгливо стряхивал их с подбородка. Отчего-то подбородок чесался больше всего.
Потом я встретил его.
Он стоял неподалеку от автобусной остановки, прижавшись к столбу. Выглядел он неважно.
- Здравствуйте, убийца, - сказал я.
Он не ответил. Ковырял подтаявший сугроб башмаком.
- Шли бы домой. Простудитесь.
Он тоскливо вытащил из-за пазухи нож и пошел на меня.
Я отчего-то не мог пошевелиться. Стоял и смотрел, как нож входит в мое плечо. Один раз. Другой. Третий.
Слабость охватила меня. Коленки задрожали. Посижу, подумал я. Посижу у столба, погреюсь.
Я присел на корточки, потом опустился на четвереньки и превратился в жалобное животное. Тыкался в столб губами, будто волчонок, искал каменный сосок волчицы.
Меня окружили охотники. Кидали в меня черными руками, проверяли шкуру на прочность. Потом взвалили на шест и понесли куда-то.
Ворса больше не было. И звезд не было. Одна тощая волчица сияла надо мной. Бесстыдно болтались ее высохшие соски.
31.
Я лежал в постели и посматривал за окно. Там суетились сосульки. Стучали по кровле подоконников, отбивали ледяные подошвы. Топотали и днем и ночью. Ночью я просыпался и смотрел в черноту, прислушиваясь к грохотанию сосулек. Иногда они суетились, перебегали с места на место, иной раз – подскакивали на месте, отбивая бешеную чечетку.
За две недели, что я лежал в постели, сосульки исходили уже сотни километров. Я не понимал, откуда берется столько воды.
Я щурился, выглядывал за окно, а вода все струилась, все подливала озера под моим окном.
Поахивая, шел я к окошку, смотрел на лужи, в которых отражались зубы сосулек.
- Зубастые сосульки нынче пошли, - приговаривал дядя Боря, затаскиваясь в комнату с хлебной авоськой.
Дядя Боря приносил мне хлеб и молоко. Остальным снабжали родители. Они приходили раз в три дня, жарили-парили, а дядя Боря потом разогревал мне папин борщ и мамины котлеты.
Март заканчивался.
Рана была – царапина с загогулиной. Но то ли от пережитого волнения, то ли от волнующего переживания у меня подскочила температура. Ни кашля, ни соплей, стабильные 38 и 1. Да еще царапалась царапина, зудела загогулина, и постоянно хотелось есть.
Демидову я сказал, что заболел воспалением легких. Сергею – что заразился чесоткой.
- От кого? – спросил он испуганно.
- От самки, - пояснил я. – Я понравился самке клеща. Очень настырная особа.
- Ага, - сказал Сергей и исчез.
Даже не звонил.
Зато надоедал Демидов. Несколько дней подряд он жаловался на свою развратную кошку и нехорошо ругался. Затем тоже исчез.
Лена не объявилась ни разу. Даже в субботу, в очередной Колин день. Значит, ее не удивило мое отсутствие. Или стало безразлично мое присутствие. Никакой реакции. Молчок.
- Зубастые сосульки, - повторил дядя Боря. – Херак, херак.
- Чего, чего, дядя Боря?
- Падают, говорю, весело.
- А чего ты за слово-то сказал?
- Звуковая имитация, - пояснил дядя Боря.
- Не похоже.
- Много ты понимаешь, - обиделся дядя Боря и пошел на кухню разогревать борщ с котлетами.
Ужасно надоело валяться в постели.
Опять позвонил Демидов. Резко, коротко объявил:
- Мне надоело ваше безделье. Я поручил работу Сергею. Или вы. Или он. Срок – три дня. Первый получает все. Второй – остальное.
32.
- Держи-ка вот, на.
- Чего это, дядь Борь?
- Котлеты тут, тама – борсчщ.
Так и сказал – борсчщ.
- Дядь Борь, уволь, не могу.
- Ты что? Что ты? – Ты жрал как порося все дни. Что случилось?
- Не могу, не лезет. Не могу, дядь Борь, не приставай. Не могу.
Дядь Борь сел на табурет, держа на правой ладони тарелку с борщом, на левой – тарелку с котлетами (двумя) и с какими-то графскими, вроде бы, картошечными развалинами.
- Кушай, тебе говорят.
- Кто говорит, дядь Борь?
- Я говорю.
- А я думал, вас много тут.
Дядь Борь покосился по сторонам и насупонился.
- Не супонься, дядь Борь. Этот… звонил. Требует, хочет чего-то.
- А, поработать тебе взвилося? Ну и работай!
Дядя Боря отвернулся, низко согнулся над тарелками, вырастив на спине горб. Уши дяди Бори задвигались, руки задергались. Он поедал мой борщ и мои котлеты.
Я встал, оделся.
- Дядь Борь, в Выхино я поеду. Надо опередить этого супчика.
Молчание.
- Ладно, дядь Борь, ты это… посуду вымоешь? – ляпнул я неосторожно.
Дядя Боря повернул ко мне лицо – в борще да котлетах. Неспешно сложил внушительный кукиш и сунул под мой нос.
Вдвоем мы рассматривали дяди Борин кукиш. Замызганный он был, конечно. Но грозный. Дядя Боря пошевелил большим пальцем. Неожиданно ему понравилось это занятие. Он шевелил большим пальцем и поглядывал на меня.
- Может, поешь?
- Нет, дядь Борь, ехать надо.
И хлопнул дверью.
Услышал, как дядь Боря гудит вслед мне, передразнивая сосульки.
Черт знает, что такое. Матерится на всю улицу.
Я шел к остановке, солнце слепило, разбрасывало холодные капли. Сосульки гремели. Я встал под коньком одного дома и явственно услышал, как хлюпало - бля-хи-му-хи. А потом одна ледяная дылда грянула рядом с пивными мужиками.
Я услышал много разнообразных звуковых имитаций этого происшествия.
33.
Но не веселило меня солнце и падающие дылды не тревожили пасмурную душу мою.
Пока я дошел до остановки, повторил эту фразу раз пять или шесть. Но не веселит меня солнце и падающие дылды не тревожат пасмурную душу мою. Была в этой фразе затаенная удаль, молодеческое уныние. К месту пришлась. Но не веселит…
Подле меня остановилось такси. Я залез в салон, развалился на заднем сидении. Взмахнул рукой:
- Выхино!
И увидел искусственный глаз. Тот самый. Взглянул в зеркало заднего вида и обомлел.
Я прямо ощущал, как млею. Но не веселит… Шевелил губами и млел.
- Ты прекрати шевелить губами, - сказал водитель. – Пристрелю.
Я прекратил шевелить губами и шепотом ответил:
- Не имеете права.
- Ты знаешь, у кого я этот глаз выцарапал? – водитель ткнул кургузым пальцем в брелок, мотавшийся у лобового стекла.
- У убиенной тобой тещи? – предположил я.
Водитель задумался. Что и говорить – был он красавец. Чеканный профиль – прямо Гарри Гудини. Мне показалось, что ему очень хотелось согласиться со мной, но не позволяла врожденная честность. Ну и чувство собственного достоинства, вероятно.
- Нет, - сознался водитель – Не у тещи. Ха-ха.
Водитель сказал «ха-ха» и вновь задумался.
Затем повторил «ха-ха». Подумал минут пять.
- Давно я так не смеялся, - подвел итог водитель. – Тебе куда в Выхино?
- Да просто в Выхино – и все.
- А чего ты губами шевелишь? Молитву читаешь, что ли? Я аккуратно езжу.
- Да нет, не молитву.
А следовало бы.
- Не молитву. Я стихи учу.
- Да ну? – водитель обернулся и тряхнул козлиной бородкой. – А ну, какие, какие?
- Да всякие.
- Прочти!
- Да что вы…
- Читай, читай, а то пристрелю.
Репертуар шуток был явно бедноват.
- Ну, пожалуйста. Извольте. Не веселит меня солнце и падающие дылды не тревожат пасмурную душу мою, - нараспев произнес я.
Потрогал языком кончик переднего зуба.
Вроде кариес завелся.
Водитель обдумал и покачал головой.
- Трудно тебе живется.
Какое-то время ехали мы молча. Я облизывал дырку в зубе, определял ее размеры. Водитель напряженно покусывал губы.
- А мне, знаешь, тоже, - сказал он вдруг. – Тоже достается. Все такая бырбырта садится. Норовят подальше поехать, поменьше заплатить, кибастосы-суспензии. А я, знаешь, в школе Пушкина любил. На конкурсе чтецов первое место занял. Как сейчас помню, вышел напередку и… «Дар напрасный, дар случайный…» дальше не помню уже. Беда… Бырбырта достала – мочи нет.
Он огорченно качнул головой и теперь замолчал уже надолго.
Я задумался. Ни о чем-то конкретном, а просто так, чтобы время провести.
- Приехали, - сказал водитель. – С тебя левый глаз.
Я протянул ему деньги. Водитель принял, не пересчитывая.
- Спасибо вам.
- Ага. Ты ведь тоже – бырбырта. Пустое у тебя сердце. И ум праздный. Иди отсюда, а то пристрелю.
Вышел из машины и услышал однозвучный шум жизни.
Выхино раскинулось передо мной.
34.
Я шел по Выхино, слово по персидскому ковру. То там, то сям перебегали мне дорогу выхинские кошки и подозрительно поглядывали на меня выхинские собаки. И тут вдруг я засомневался, Выхино ли это? Может, обманул меня чеканный с козлиной?
Я подошел к одной выхинской старушке:
- Бабушка, а как бы мне в центр Выхино попасть? – спросил я осторожно.
Бабушка посмотрела на меня заплесневело. Зевнула и прошамкала:
- Какое ишо Выхино. Это Тыхино.
Бесполезно разговаривать. Явно не в себе.
Подошел к мужичку. Он прислонился к тополю и прихлебывал кофе из муаровой чашечки.
- Дедушка, где тут центр Выхина?
Дедушка отхлебнул глоточек, крякнул. Потряс чашкой, сбрасывая капли.
- Тебе чевой-то нужно, не пойму. Ты в Онихино, а тебе чевой нужно?
Я беспомощно оглянулся, посмотрел на бабулю.
- А вот та бабуля говорит…
- Что ты в Тыхино, - закончил дедуля. – Ну, знаю. Она завсегда так говорит. Ты меня слушай.
Я отошел от дедушки и побрел по какой-то смиренной улице с раскидистыми ветлами и тополями.
Мимо шла девушка с коляской. Девушка улыбалась, ворковала по мобильному.
- Девушка, простите, извините, срочное дело, - подскочил я к ней, не на шутку запыхавшись.
- Извини, Клара, - сказала девушка в трубку и вопросительно посмотрела на меня.
- Ради Пушкина, - сказал я. – Извините, сбился с пути. Однообразной жизни шум. Не пойму. Это – Выхино?
Девушка поцокала язычком и легко сказала:
- Нет, конечно, молодой человек. Это – Мыхино.
- А, а… - забился я в судорогах, тыкая рукой в сторону деда и бабули.
- Они всегда все перепутывают. Старенькие уже, - сказала девушка.
Подтолкнула коляску и тронулась дальше.
Горько изогнувшись, заглянул я в коляску. Там лежал розовощекий младенец и надувал щеки. Он что-то явно пытался сообщить мне. Да-да, несомненно.
- Яхино, Яхино, - пускал пузыри малыш.
35.
Я отпрянул.
Метнул взор.
Солнца не было. И ледяных дылд тоже не было.
Но что-то – было?
36.
Что было-то, что?
Несколько раз задавал я себе этот ненужный вопрос и не находил ответа.
То ли звенели жаворонки, то ли скрипели жабы. Роилось нечто вокруг меня и вело, тащило и подталкивало. Я поглядывал по сторонам, но ни одну явственно не различал. С юга доносилось: «Царь-батюшка», с севера – «Давай, матушка», на западе кто-то требовал граппу, а ему подсовывали дхарму, на востоке боролись за власть.
Все перемешивалось и топорщилось. Видел лица – сплошь бородатые, и с накрашенными губами. Я щурился, пытался разглядеть выражения. Но выражения все были такие, что и рассматривать их не хотелось. Размалевано, размазано, наспех, кое-как.
- Человеку плохо! – услышал я.
Думал, ко мне бегут, а оказалось - к другому. Лежал он на жидкой мостовой, раскинув руки. Помаргивал в жидкое небо.
- А ты, батюшка, не спеши, - вдруг услышал я голос.
Седенькая старушка теребила меня за рукав.
- Ты тихохонько, тихохонько пробирайся. Ты смотри исподволь, не мечись взором.
Я послушал старушку, скосил глаза на мартовского короеда.
И пошел, пошел окоемами, цепляясь за случайности: гривенник на мостовой, букву «я» на вывеске булочной, осколок стекла в луже.
По пути ко мне подходили, интересовались, не в Выхине ли они.
Я отвечал степенно, мол, нет, не в Выхине, в Онахине.
- Тут ли жил монах Онахий? - продолжали допытываться некоторые.
- Тут жил, - кротко ответствовал я. – И жил, и помер.
- А где ж могилка его?
- Разорили, - пояснял я. – Пришли Яхинские и разорили.
- Так надо бить Яхинских.
- Надо, - терпеливо соглашался я. – Да некому. Все обессилели. А кто и вовсе безумен.
- Вот беда-то какая, - покачивали головами и отходили.
Зашел я в кафетерий выпить соку. Хоть лимонного, все равно. В горле пересохло от объяснений.
Вижу – три стола. У каждого – человек. Перед каждым – по стакану.
- Дайте лимонного соку, - прошу продавщицу.
- Нету лимонного, - отвечает она мне, - Все вон тем разлила.
- А какой есть?
- Только гречневый, батюшка.
- Давайте гречневый.
Принесла мне гречневый сок. Пальцем не провернуть. Уж такой гречневый – прямо до безобразия. Тыкаю я в него соломинку, тыкаю. Бесполезно. Пришлось без соломинки. Пью я гречневый сок и поглядываю на трех с лимонным.
Первый в чесучовом стареньком костюмчике забавно пьет. Прихлебнет и скривится. Прихлебнет и скривится. Видно, пить ему невмоготу, а режим дня требует. Образцовый человек.
Второй – в костюмчике твидовом – иначе пил. Цедил, понимаете? Не пьет, а цедит. И физиономия печальная. А все ж глазки сверкают. Смотришь на него, и прямо цитировать хочется: «Я его за муки полюбила, а он меня за состраданье к ним». Достойный господин.
А третий – дурак. Одежду всю с себя скинул, - ту, что выше пояса, конечно. Внизу – спортивные штаны с начесом. Вверху – футболка с надписью: «Гегемон». Пьет, как лошадь. Заливает в себя лимонную, глаза закатывает и причмокивает от наслаждения.
Увидел меня, поднял свой бокальчик, кричит:
- Будьте здоровы!
Те двое тоже встрепенулись, машут мне.
Допили они свои бокалы, метнулись к продавщице. Смотрю – та им опять лимонного наливает.
Я – к ней.
- Почему, - спрашиваю, - обманываете меня?
Продавщица посмотрела на меня полупрезрительно и отвечает:
- Всяку шваль еще лимонным поить?
И тут же, спохватившись:
- Прости, батюшка, кончился лимонный. Один пшеничный остался.
Ушел я, не пшеничного хлебавши.
37.
Недалеко ушел. Иду – шваль швалью.
- Смотри-ка, мамо, - шваль идет.
- Шваленыш какой симпатичный!
- Шваленок, одно слово.
- Не подходи к швальке, а то закусает.
- Вот ведь швалек какой неприкаянный.
Горько мне стало от этих слов. Все меня ругают, бесчестят. Присел я у постамента и завыл на звезду Неясыть.
Тут уж совсем темно стало.
Выхино, Яхино, Мыхино, Онихино, Тыхино, Онахино. Обмяк я. Душа, как гамак, кто хошь – садись и качайся.
Присела одна… Да я ее – хвать. Руке – тепло и мягко. Смеюсь.
А она своей подруге в кокарде:
- Бурундуков зовет. Бурундучки у него.
Подруга возражает:
- Белочки.
А эта свое гнет:
- Бурундучки.
- Белочки.
Сошлись на лисичках.
И так мне грибов захотелось! А кокарда – чем не гриб? Холодный и влажный, как подберезовик после дождя. Я – хвать – за кокарду, и тяну, тащу. Ножа-то нет.
Тут яхинские набежали. Проворные, ироды. Но за меня онахинские вступились. А тут и мыхинские подвалили, с древокольями. Онихинские тоже тут как тут, но эти больше побалакать. А тыхинские в самом конце пожаловали, им и досталось под раздачу.
Раздали все, что было, и наступила тишина.
Пожаловала.
Стал я ее окоемами рассматривать, а она – трепещет, ускользает.
- Не уходи, тишина.
А она смеется:
- Знать тебя не знаю.
Баба, что с нее взять.
38.
Тишина объявилась такая – хоть глаз выколи. Ну, я и выколол. Не себе, а кому-то третьему. Второй куда-то делся. В тишину посыпались звуки. Кто-то жаловался на свою горемычную безглазую жизнь. А другой его увещивал, к чему, тебе глаз, когда такая заповедная тишина кругом. А потом еще и темно стало. Слух вдруг окостенел, объявилась обстоятельная темнота, уши завяли. Язык сам по себе свернулся в трубочку. Руки я отбросил. Ноги сами отпали. Было еще обоняние, но оно обманывало. Предъявляло претензии, намекало на свое исключительное положение, сомнительные прерогативы.
Что-то медленно ухало, хрипела сирень, горланил закат, наливался гневом мазут. Я шел на цыпочках, старательно шарахаясь от бедовых выхинских теней. Но те наливались тяжестью прямо на онемевшем глазу.
Навстречу мне шла румяная темнота. Она навалилась на меня, присосалась наотмашь к моим губам.
- Был ты оптимизатор. А стал анализатор, - предъявила мне темнота и заволокла меня своим гадким румянцем.
39.
- Сынок, проснулся?
Кто-то потряхивал плечо за меня. Плечо двигалось нецелесообразно. Разухабисто и нагловато. Была в его движениях неуместная удаль. Плечо мешало ресницам сосредоточиться. Кроме того, плечо ныло. Плеча было слишком много, я так и сказал тому, кто меня тряс:
- Плеча-то много как.
Мной забулькало. По пищеводу поплыли пузырьки и губы оросились. Губы в росе. Мне понравился этот образ. Пока я его обдумывал, лицо мое повлажнело. Его кто-то облизывал. Это было хорошо, и я задремал.
- Вставай, сынок. Надо, надо.
Я пробрался между ресниц и увидел голубоглазую бабуленьку. С добрыми - добрыми щеками и пуховыми губами.
- Ухожу я, - сказала она мне тихо и легко. – На вахту пора. А ты покушай, да иди потихоньку. Родные, чай, заждались.
Я кивнул. Но делать этого не стоило, потому что стоило мне это сделать, как я сразу понял, что стоило делать что-то совсем другое. Например, не кивать. Вместе с кивком пришло острое осознание собственного несовершенства и вселенской тоски по истине.
- По истине тоскуешь? – поняла меня бабуля.
Кивать я уже не стал, только посмотрел на нее жалобно.
Бабуля подошла ко мне и пощекотала по тому-то твердому, чуть повыше носа. И я тут же понял, что это лоб. Случилось чудо. Я полностью пришел в себя. Сел на кровати, осмотрел микроскопическую комнатку, уставленную антикварными самоварами.
- Что случилось, бабусь? Я что, напился?
- Да нет, - отвечала бабуся, надевая шинель, - Тебя василиск заколдовал.
- Какой еще василиск?
- Да наш, выхинский.
- Так я в Выхине?
- А где же еще? Ну, пошла я. На службу пора. Ты как будешь уходить, щеколду-то на калитку запри.
И ушла.
40.
Я выпил смородинового отвара и выметнулся на улицу. Запер щеколду на калитку. Стоял на улице и соображал помаленьку. Падал, этот. Я засомневался, снег ли. Открыл рот и ощутил знакомый вкус. Кисл был мартовский снег этого года. Вроде рассола. Только непонятно, куда делись огурцы.
Я пошел. Сначала правую ногу выдвину, потом – левую. Складно получалось, я порадовался. Но сейчас же позвонил Сергей и заорал. Ужасно неприятно. Идешь как человек, получаешь удовольствие, а на тебя орут.
Он орал все время пока я шел по улице.
Он визжал, что не будет больше работать на меня. Что он сам себе голова и мочевой пузырь. Что он знает дело, а я – …тут он матом. Что он чуть с катушек не съехал, пока общался со мной. Что я – тут он опять матом. И что он больше никогда не будет – и снова матом. Я заскучал. Как же все-таки убог словарный запас средней руки оптимизатора на Руси. Он прочитал мои мысли и заорал еще громче. Он визжал, что его словарный запас совсем не убог, а напротив, роскошен. Он утверждал, что погряз в роскоши своего словарного запаса, что он читал письма Стендаля в подлиннике и имел любовную связь с профессоршей из Сорбонны. Он даже ввернул несколько забавных слов, вроде «идиосинкразия», «престидижитатор» и «агглютинация». Потом он взял паузу для передышки. Я спросил, как поживает семантическое ядро. Он взвыл, как сигнальная ракета. Из трубки посыпались слюни. Вы только представьте – выскакивают из трубки ошметки слов вперемешку с мокротой. Я отстранил трубку от себя. Он изнемогает, а я иду мирно и размышляю о том, куда делись малосольные мартовские огурцы. И тут меня озарило. Я понял, что их украли.
Как я понял из нечленораздельных выкриков Сергея, он вчера еще оббежал половину Выхина и собрал нужные сведения. Сегодня он планирует оббе…– нет, уже оббегает вторую половину Выхина. После чего еще пару-тройку дней он потратит на изучение главных вопросов жителей Митина, Гольянова и Новогиреева. Затем заскочит к теще в Костромскую область, задаст там пару-тройку вопросов нужных людям и к вечеру 1 апреля соберет репрезентативное семантическое ядро ключевых вопросов бытия жителей Российской Федерации.
- Выхино – ключ к победе! – победительно заорал Сергей и отключился.
Вот и ладно. Я от него очень устал.
41.
Пока я шел к проспекту, мимо меня пару раз что-то пролетело. Оставив мартовскую взвесь на ботинках, а на зубах скрип трудового пота. Чего нельзя было отнять у Сергея, так это трудолюбия. Похоже, что Сергей, действительно, получит все. А мне достанется остальное.
Семантический тупик. Ни одного вопроса, ни единого ключевого слова. Кроме, пожалуй, одного, который я сформулировал для самого себя. Но, как знать, возможно, именно этот вопрос и будет решающим. Демидов настоятельно советовал начинать с себя. Над вопросом я раздумывал несколько дней и сейчас он оформился окончательно. Кто стащил огурцы?
42.
К трем часам дня добрался до центра. Сначала мне показалось, что это не центр. Потом пригляделся: центр, никаких сомнений, центрее не бывает. Между зданиями ходили импозантные и не слишком люди. Бранились и смеялись Показывали пальцем друг на друга. Некоторые целовали других. Другие других не целовали, но тоже выглядели довольными. Третьи других целовали, но были недовольны, даже раздражены. Замечательная атмосфера. Настоящий центр.
Я прошел по центру туда и сюда и увидел Иннокентия Игнатьевича. Он выглядел пряно. Так я ему и сказал.
Он подпрыгнул от восторга.
- Как же хорошо! – восклицал Иннокентий Игнатьевич, - Как здорово, что я вас встретил.
Его прямо распирало.
- Мне надо срочно поделиться своей радостью! – громогласно шептал Иннокентий Игнатьевич. – Здесь, на свежем воздухе…
Я его перебил.
- Делиться радостью следует на черством воздухе, - сказал я. – Пойдемте в цивилизованный кабак.
Мы заказали по чашечке капучино, и Иннокентий Игнатьевич продолжал:
- Вообразите, я решился полностью изменить свою жизнь.
Сколько раз я это слышал – от себя еще чаще, чем от других. Я посмотрел на Иннокентия Игнатьевич со сложным, хорошо скрываемым чувством.
- Несмотря на ваше сложное, хорошо скрываемое чувство, я уверен, что полностью вас покорю, - улыбнулся собеседник.
- Иннокентий Игнатьевич, - начал я, ощущая раздражение в пояснице. – Поверьте…, не надо меня покорять.
- Нет! Не поверю! Я совершенно другой человек! Я больше ни Иннокентий Игнатьевич!
Он восклицал. От восклицаний закладывало уши. Разве сегодня день восклицаний?
- Я начал новую жизнь! Поменял имя! Теперь я – Татьян Игнатьевич Блик.
- Как, как? Лик?
- Блик! Блик Татьян Игнатьевич. Татьяна – имя моей матери. Ну, почему, почему наши матери хуже наших отцов?! Отчество мы берем у отцов, а имя-то имя должны брать у матери. Разве я не прав? Прав! А что касается фамилии… - Долой революционеров Чернобоев, подите прочь, купцы Михрюткины. Я разорвал путы истории! Я вышел за рамки кровных ограничений. Я – гражданин мира. Урби на барби – городу и миру. Я – свободен.
- Очень хорошо, Инно… простите, Татьян Игнатьевич, - быстро поправился я, - Не горячитесь так, объясните только, почему Блик?
- Мы все, - он обвел рукой деловито закусывающих людей в кафе, – лишь блики в океане Вселенной.
Михрюткин вскочил на стул.
- Я – свободный человек свободного мира. Блик Вселенной! И вы, вы тоже – блики!
Народ навострил уши.
- Смотрите на меня! Я осознал свое эго. Некогда я был юрким сперматозоидом и плыл по волнам Вселенной.
Он хорошо говорил. Голова кружилась от намечающихся перспектив.
Вокруг Михрюткина-Блика начал собираться народ. У дамочек горели глаза. Мужчины играли желваками.
Самое время улизать. Улизывать. Улизнуть. Впрочем, не остаться ли: поиграть желваками, завербоваться в армию юрких сперматозоидов потомка Чернобоя.
У порога я еще раз посмотрел на Михрюткина. Внук революционера был великолепен. Кровь предка бурлила – куда от нее деться!
43.
В детстве каждый из нас обходил трещины в асфальте. Кто – реже, кто – чаще. Нет, вероятно, такого человека, который хотя бы однажды не стремился их обойти, искренне полагая, что если наступишь, то конец света и двойка по математике обеспечены. Помню, когда мы с Леной женились, идея миновать все трещины на пути от свадебного автомобиля до двери загса показалась мне стоящей. Я открыл дверь, заехал каблуком в ахилл шурина, потоптался на туфлях тестя и пошел на каблуках к машине невесты. Потом Лена деликатно закрыла меня широченным платьем от зевак.
Но меня все-таки углядела курносая веснушчатая девочка лет семи.
- Надо же! Дядя собрался жениться, а хочет писать, - объяснила она окружающим.
Пары брачующихся оживились.
- Катенька, нельзя так громко разговаривать, - пыталась урезонить девочку ее мама.
- Хорошо, мамочка, - вздохнула покладистая Катенька, - я буду шептаться, как ты по вечерам с папой, - сказала не по годам развитая девочка. – Сначала вы шепчетесь, а потом…
- Пойдем быстрее, Катенька, - поспешно сказала женщина.
Она пошла пунцовыми пятнами и выглядела смущенной. К счастью для меня, всеобщее внимание переключилось на Катеньку и ее маму. Я кое-как доковылял до двери загса, но тут меня окликнул папа. Я лихо крутанулся на носке, а каблук мой застрял в решетке у входа. Пока я вытаскивал каблук, то истоптал все окрестные трещины.
Когда я вышел и кабака и увидел, что прохожие идут враскоряку, то ощутил себя той самой девочкой. Все шли точь-в-точь как я тогда перед загсом. Но возможно ли, чтобы все разом захотели писать? Нет, это было бы слишком. Даже для центра, в коем я пребывал.
Я присмотрелся. Прохожие делились на пять групп. В походке каждой группы была некая отличительная особенность. Члены первой явно обходили трещины. Я хорошо знал эту подтанцовывающую раскоряку.
Члены второй группы передвигались скачкообразно, тревожно поглядывая на небо. Кроме того, они переговаривались.
- Летит?
- Вроде нет…
- Справа!
Члены группы делали мгновенный подскок, виляя ножкой.
Я посмотрел на небо. Чисто. Даже глаза заныли.
- Летит? – поинтересовался у меня респектабельный мужчина.
- Что?
Мужчина потерял ко мне интерес и пристал к молоденькой девушке, повторяя тот же вопрос.
Девушка сощурилась в небо и объявила:
- Спереди и слева. Обратный шассе, четвертной поворот направо и пивот.
Мужчина и девушка взялись за руки, проделали указанные девушкой танцевальные па и дальше поскакали вместе.
Третья группа состояла, в основном, из женщин в возрасте. Все они были одеты в сильно декольтированные платья, а уж поверх – куртки, пуховики, плащи. Женщины семенили – энергично, но, на мой вкус, несколько монотонно. Семеня, они пытались задеть друг друга бедром. Сбить с шага. Посеять смуту. Сбитая с шагу женщина некоторое время приходила в себя, потом вновь обретала уверенность и семенила дальше, цепляя соседок. Некоторые женщины семенили безучастно. Присмотревшись к ним, я с изумлением обнаружил, что это были не женщины, а мужчины, замаскированные под женщин. Взглянув еще более пристально, я понял, что и среди уверенно семенящих женщин половина оказалась мужчинами. Платья на поверку оказались распахнутыми рубахами, все больше алого цвета.
Четвертую группу составляли хмурые и озабоченные люди. Передвигались они хмуро и озабоченно, аккуратными шажочками. Выставляли вперед ладошки, словно опасаясь наткнуться на невидимую стену. Неожиданно шарахались в стороны, подозрительно косились по сторонам. Раскоряка их была хмурая и озабоченная. Неприятная раскоряка.
В пятую группу входили «стояки». Так я назвал их про себя. Сосредоточенное стояние их было подобно медленному загниванию мощного дерева. Сначала стояли они гордо, выпятив грудь, живот или всякое разное – у кого что было. Затем начинали никнуть, горбиться, поджимать члены и чресла. Лица постнели, глаза проваливались в темные мешки, кожа провисала, носы топорщились. Гадость, даже вспоминать не хочется. Так они скукоживались до самой земли, надрывно извиваясь, как стриптизерша с приступом радикулита.
Тут вдруг я поймал себя на нехорошем чувстве. Асфальт – он как будто приблизился. Я поднял правую руку и с ужасом увидел, что она скорчилась. Шея не гнулась. Пятки вывернулись. Скосив глаза назад, я увидел, что зад оттопырился. Похоже, что я уверенно входил в группу под условным номером «пять».
Скрипнув дуплистым зубом, я двинул вперед правую ногу левую, правую, левую… Дело пошло на лад. Войдя в бодрый ритм, я осознал, что семеню, и машинально пощупал, не сбился ли вырез платья. Срочно пришлось замедлить шаг и пойти более размеренно. И тут же выставил ладони, чтобы не наткнуться на стены, которые просто были напиханы в пространстве. Некоторое время я ловко обходил их, с неудовольствием понимая, что делаю что-то не так. Тут же ко мне подлетела юная девушка, выкрикнула: «Летит» и многозначительно посмотрела в небо.
Я поднял глаза и заметил там некоторое такое. Они, как правило, иногда очень опасны, особенно если постоянно их игнорируешь.
- Пивот, кросс-шассе и лок вперед, - скомандовал я девушке, ловко подхватил ее за талию и проделал па.
Не без изящества.
Девушка доверительно похлопала на меня ресницами и вложила свою руку в мою ладонь. Я сексуально расцвел.
И, тем не менее, быстро выцвел, ибо к девушке подскочил какой-то надменный валенок и утащил ее от меня, отчаянно кося на небо обеими глазами: левым – направо, правым – по центру.
Тут уж мне ничего не оставалось делать, как двинуться пританцовывающей раскорякой, зорко поглядывая на трещины в асфальте. К счастью, их оказалось совсем не много. На жизнь вполне бы хватило. Но меня окрикнули:
- Эй ты!
Я целеустремленно двинул прямо по трещинам. Лишь бы поскорее выбраться из настоящего центра хоть на какую-нибудь искусственную периферию. И почему я решил, что это позвали именно меня?
И только когда я столкнулся нос к носу с Леной, я понял, почему так решил. Очень просто: я узнал голос своей «бывшей».
Но разве жены бывают «бывшими». О, я на миг усомнился. И поплатился за это немедленно…
44.
Не говоря ни слова, Лена схватила меня за нос. Подошла и уверенно прихватила двумя пальцам нос. Потом скрутила направо, пережала носовую перегородку, оттопырила мизинчик, подергала за хрящик.
Вообразите. Идешь размеренно из центра на периферию. И тут подходит к тебе бывшая жена и огорчает прилюдно. Не столько больно, сколько унизительно.
Она сжимает, а у меня – слезы градом.
Ничего сказать ей не могу, только плачу.
А Лена сжимает, крутит и покусывает нижнюю губу. На нижней губе – пупырышки и капельки. Пупырышки алеют от Лениного гнева, а в капельках отражаюсь я, с перекрученным носом.
Люди идут мимо, посматривают, но без особого интереса. Только один мужичонка достал раскладной стул и уселся неподалеку. Смотрит очень внимательно.
Даже Лена смутилась. Ослабила хватку.
- Чего вам надо? – спрашивает у него строго.
- Я режиссер, - суетливо объясняет мужичонка. – Понимаете, технику хочу поймать, технику сжатия. Ловко у вас выходит. Много тренировались?
Тут Лена отпускает мой нос, всхлипывает и говорит:
- Семен, хоть ты мне всю жизнь искалечил, а я тебе пытаюсь только нос, но право, же, не хочу давать поводы досужим соглядатаям.
И – к мужичку:
- Безучастный. Перед вами женщина с маниакально-депрессивным психозом, а вы глазеете.
- Уши подержать? Так это запросто…
Но Лена уже подхватила меня под руку и повлекла за собой.
45.
Монолог Лены
Семен, я не буду спрашивать у тебя, зачем ты испортил мою жизнь. Все равно, не получу ответа. Объясни только, почему ты не приносил мне кофе по утрам? Ты думаешь, это мелочи? А это не мелочи. На утреннем кофе строится фундамент супружеских отношений. Кофе по утрам в постель любимой жены – залог крепких семейных уз. Жена пьет кофе, а муж любуется женой. Красивый поднос, салфетка, фарфоровая чашечка, сахарница с колотым сахаром, щипчики для сахара. Тонко нарезанный лимон на хрупком блюдце. Пар из чашки. Жена подносит чашку к губам и вдыхает кофейный аромат. Муж сидит тихо, он благоговеет. Горький напиток булькает и струится. Это – правильно. Это – красиво. Это, в конце концов, сексуально, Семен. В мужчине поднимается желание. Он наблюдает за женой, и желание его крепнет, становится жгучим. Жена чувствует желание, и наслаждается им. Губы дрожат, кофе льется, желание обжигает. Взаимопонимание растет. Мужчина дрожит. Женщина настораживается. Им надо идти на работу. В соседней комнате орет ребенок. Возможно, он описался. Но кого это волнует, Семен? Кого это волнует, если есть желание. Меланхолия, страсть, истома. Гордость и предупреждение. Жена предупреждает мужа взглядом. Не спеши, милый, дай насладиться. Но мужчина не внемлет. Он страждет. Его кадык ритмично ходит – туда и сюда, туда и сюда. Он глотает кофе желания. Его рассудок мутится. Он пал. Он пал, Семен, но как прекрасно он пал. Он пал в ноги жены и его губы шепчут: «Пей, пей еще, восхитительная моя!». И я – пью. Я пью и понимаю: еще мгновение, и я тоже паду. Но падение мое – ввысь, туда, где поют птицы неутолимых наслаждений. Где пчелы страсти глотают нектар искушений. И птицы и пчелы неутомимы в своем желании глотать и насыщаться неутолимо. А на кухне гремит и падает посуда. Это ребенок вырос и хочет есть. Ему давно пора в школу. Но разве это важно, Семен? Важен мед, один только мед – неутолимый и неутомимый. Черный кофе струится на постель. Горькие губы дарят горечь поцелуя. Вот он, философский камень страсти, - тот пряный миг, когда горечь становится сладостью. Кружевное белье летает по комнате, охают сервизы, сотрясаются стены. Отчего они сотрясаются, Семен? От одной лишь чашечки кофе. Ну, почему, почему ты не приносил мне кофе по утрам? Почему это делает Глеб, и не делал ты? Почему???
46.
Умоляюще и горько смотрела на меня Лена. Я молчал.
Лицо Лены изменилось. Она прищелкнула пальцами.
- Ну и вид у тебя, бывший. Приложи хоть пятак к носу.
И резко отвернулась от меня. Но никуда не ушла, оцепенилась как воткнутая. Ибо навстречу нам шел Глеб с дамочкой-пышечкой, сияющей как пресловутый пятак. Бальзам для пылающего носа.
47.
И не стал он ни суетиться, ни оправдываться. Глеб, конечно, а не пятак и не нос. Величаво нес Глеб свое достоинство неверного любовника. Пышечка – туда-сюда, хотела улизнуть от встречи с бывшей. Не только моей, выходит, бывшей, а уже и глебовой. Но Глеб прихватил ее покрепче за бок, и пышечка обмякла. Методично и со вкусом. Процессуально и результативно. Обмякает и сияет, вот умница. Какой мужчина не придет в восторг от сиятельных обмяканий!
На лице Лены поселилась грусть. Понастроила домики, колодцы, фермы и бани. Запустила кур в огороды. Обзавелась крепостными, пустила их на оброк. Те принялись сеять и жать пшеницу тоски и рожь уныния. Лица им было мало, перешли пониже. Потом еще пониже. Еще и еще. Лена ссыхалась и выцветала. А пышечка сияла над ней – победоносно и круглолице.
- Теперь ты все знаешь, - не спрашивал, а констатировал Глеб. – Я презренный раб интернета, копирайтер, как твой Семен. Почти, – поправился он, слегка качнувшись в мою сторону. – Семен – продвигает, а я – пишу. Наше общее дело – говносайты. Прости, Ленок, - он качнулся к Лене, - я знаю, что ты не любишь слово «говно». Но как скажешь иначе! Никак не скажешь иначе. Говно – и есть говно. О нем иначе не говорят. Это же говно! Я обманул тебя в лучших твоих ожиданиях. И в худших тоже обманул. Впрочем.
Глеб зорко взглянул на серую Лену, оценивая, вероятно, баланс лучших и худших ее ожиданий в отношении самого себя.
- А Людок принимает меня со всем моим скарбом надежд и трудов, оплеух и стараний, - подвел итог Глеб и передернул плечами.
Демонстрируя, насколько тяжело ему говорить о своем скарбе.
Тут Глеб как-то тяжело сглотнул и сухо добавил:
- И мама моя тебя не любит. А сын твой… Коля – пацан хороший, но не свой.
И вновь воодушевился.
- Пусть помнит, что он самый умный, самый красивый, самый лучший ма...
- А ты руки после сортира вытирай, - сказал я и плюнул на Глебов башмак.
Глеб непонимающе смотрел на меня.
- Пошли, Лен, - сказал я бывшей, подхватил ее за локоть.
И мы пошли.
Я – с баклажанным носом. И серая, пепельная Лена.
48.
Самое время рассказать о том, как мы познакомились. Вернуть прошлое, прокрутить кинопленку, перемонтировать жизнь, переписать титры. Но когда мы – баклажанно-серые - шли по проспекту Отчуждения, и я взглянул со стороны… Мне не понравилось то, что я увидел.
Лена захлебывалась в печали. Я укоренялся в безучастности. Мы шли в одном направлении, удаляясь друг от друга.
И, все-таки, кое-что я вспомнил. Что-то нелепое, брошенное и недостоверное. Я вспомнил придуманный облачный день. Низкий день, хлопотливый день.
Таял снег, как сейчас. Мы зашли на постоялый двор. Здесь постоянно сушилось белье, - наволочки и половички, ситцевые занавески и распашонки с васильками. Мы встали напротив друг друга на расстоянии двух-трех метров. Васильковая распашонка билась на ветру, перекрывая наши лица. Но мы не сближались, нам хотелось другого. Стоять на ветру, замирать от счастья. И чтобы мокрая ткань хлестала на весеннем ветру.
- До свиданья, Семен, - медленно произнесла Лена. – Позвонишь насчет Коли. Когда сможешь… захочешь.
- До свиданья, Лена, - ответил я. – Да, конечно. Позвоню. Когда захочу… Смогу.
Правильно было бы написать, что больше мы никогда друг друга не видели. Но истина не в том, чтобы уйти, и не в том, чтобы вернуться. Может показаться, что истина - в мартовском ветре, треплющем васильковую пеленку посреди постоялого двора. Я искал точную формулировку того, что не является истиной, и стремительно воодушевлялся. Еще немного, и я выскажусь, возвышу свой голос, сделаю нестерпимый и яростный жест в сторону прохожих мартовских косяков.
Но тут позвонила мама.
49.
- Приезжай быстрее. Мы с отцом не может договориться, кто заберет сервиз с незабудками. Нет, с васильками.
- С барвинками! – загрохотал отец издалека. – Сколько раз тебе повторять: на нем нарисованы барвинки!!
- Мам, о чем ты? Куда вы хотите его забрать?
- Мы разъезжаемся, Семен. Ни о чем не спрашивай. Все решено.
50.
Добрался я к родителям под вечер. Такси проезжали мимо. Автобусы ломались, не пройдя и трех остановок. Я шел дворами и закоулками, рассматривая быт центральных окраин.
Я проходил через дворы, в которых разливались пивные лужи и суровые мартовские собаки пили эту соленую влагу, пьянея на кошачьих глазах.
Я проходил через дворы, где под навесами облезлых беседок собирались тощие юноши с зевающими гитарами, и тихоглазые шелковистые девушки заглядывали в гитарные омуты.
Я проходил через дворы, где малышня лепила крепости из снежной слякоти, лома сосулек, призраков грязи и песка.
Я проходил через дворы, где люди справляли свадьбы, а свадьбы сплавляли людей, где азартно кричали украденные жены, мужья выстраивали башни невиданных желаний, а тамада с баянистом пили украдкой, чтобы их никто не сглазил.
Я проходил через дворы, где женщины пахли черникой, а мужчины – персиковыми косточками, но никто этого не замечал, кроме меня.
Я проходил через дворы, где воздух был мозаичен, и старые алкоголики выламывали его кусочки из пазов, чтобы изучить цветовую гамму портвейна.
Я проходил через двор, где пацаны мучили кошку.
Мучили или собирались замучить. Стояли они напряженно, плечом к плечу, а самый плечистый держал конец веревки. К другому концу была привязана кошка. За горло.
Пацаны обсуждали способы казни. Кошка прощалась с жизнью. Она все понимала.
Я подошел к плечистому, дернул за веревку. Он не отпускал.
- Чего тебе, дядя, - спросил насмешливо.
Но я уже распознал труса. Дернул посильнее, глядя трусу в глаза. Потом развернулся и пошел вперед, таща труса на веревке, как на поводке. Кошка с достоинством поднялась и побежала рядом со мной. Остальные пацаны шли молча, держали дистанцию.
- Митяня! – заорал трус в сторону темных окон на втором этаже.
Там немедленно вспыхнул свет, в форточку вылезла голова Митяни.
- Смари, че этот козел делает! – вопил трус. – Спаси, братан!
- Собаку спустить? – Митяня сразу перевел разговор в деловое русло.
- Че тормозишь! – орал трус. – Щас придушит меня.
Я остановился. Перекрестился. Поднял кирпич.
- Митяня, - негромко крикнул я.
- Ну, - отреагировал Митяня, не спешивший особенно за собакой.
- Скажешь доброе слово о кошке, спасешь брату жизнь.
Митяня куда-то исчез. Похоже, свалился со стула. Через минуту он выбежал во двор, держа на поводке громадную овчарку.
Я покачал головой и пошел дальше. Трус веревку не отпускал. Ничего. Следующий двор уже выставил подбородок. Идти оставалось недолго.
Я подошел к кошке, взял ее на руки и прицелился кирпичом в труса.
Тот заволновался.
- Убьешь меня? Из-за кошки убьешь?
- Убью, - охотно подтвердил я, поигрывая кирпичом. – Вообще не заметишь.
Трус побледнел. Краем глаза я заметил, что нас догоняет Митяня с овчаркой. Трус тоже это видел и слегка приободрился. Митяня клацал зубами, бормотал под нос какие-то ругательства.
Метров за пять до нас с трусом, Митяня присел на корточки, подтащил к себе пса, принялся копошиться у того в холке.
- Мить, - позвал я его.
Митяня поднял на меня кровавые глаза.
- Мить, может произойти неприятная история. Твоя собака будет убивать меня и кошку, а я буду убивать твоего брата и собаку. У собаки есть зубы. У меня есть кирпич. Кто сильнее – зубы или кирпич?
- Зубы! – выкрикнул Митяня. – И скорость.
Он уже отцепил поводок и теперь держал пса за ошейник.
Я вздохнул и отбросил кирпич в сторону. Отобрал веревку у остолбенелого труса. С кошкой на руках пошел дальше.
Митяня спустил-таки собаку. Я услышал за спиной ее кровожадное сопенье. Спешить было некуда и незачем. Я дошел до забора, перекинул кошку на крышу гаража, повернулся к псине.
Она подбегала ко мне, разевая страшную пасть. И тут позвонил Демидов.
- Сергей вас опережает, - произнес он насмешливо. – Первый получает все, а…
- Иди в жопу, Демидов, - сказал я, неожиданно разволновавшись.
Швырнул трубку в собаку. Она перехватила телефон на лету и раскусила.
И тогда я побежал. Никогда в жизни я так не бегал. Я парил над сугробами, едва переставляя ноги, я мчался, я несся, упоенно и восторженно.
Собака надежно отстала. Думал – безнадежно, ан, нет – вполне надежно. Отстала - так отстала.
Ничуть не запыхавшись, я добежал до родительского дома, махнул на восьмой этаж.
51.
Дверь открыла рассерженная мама, я вошел в квартиру. В коридоре были свалены тюки, чемоданы, сумки. На рыжей сумке сидел папа с бутылкой водки. И поливал ею мамин прыщавый кактус.
- Папа, зачем ты поливаешь мамин прыщавый кактус?
- А затем, сын, что горько мне, - сказал папа и с наслаждением протащил ладонь по колючей роже.
Поднял руку и продемонстрировал капли крови.
- Орошу высохшую землю, - сообщил о своих намерениях папа и потряс ладонью над кактусом.
Мама всхлипнула и убежала на кухню. Я бросился за ней.
Кактус этот я помню с самого детства. Я помню его, а он – меня. Он помнит меня лучше. Дело в том, что надменный этот суккулент подарил родителям на их свадьбу дядя Гордон. О нем в семье ходили легенды. Право считать дядю Гордона своим родственником родители оспаривали друг у друга. Чаще побеждала мама, но, случалось, папа выдавал такие подробности о жизни дяди, что мама поглядывала на папу с завистью. Редкий кактус прибыл из высокогорной Мексики. Он цвел раз году, поздней осенью, и тогда к нам сбегались все соседи по подъезду. Они рассаживались вокруг цветущего кактуса и часами смотрели, как распускаются иссиня-розовые, ванильные лепестки с изумительными лиловыми оттенками цвета лазури.
- Мам, я ничего не понимаю. Что происходит с папой? Вы же никогда не ссорились.
Но маму не требовалось утешать. Всхлип был одинок и случаен. Мама была в ярости. Она ловко извлекла из настенного шкафа кофейный сервиз и принялась его бить.
Правой рукой – чашку, левой рукой – блюдце – дзынь-бздряк. Яростная методичность маминых действий заворожила. Это было похоже на цветенье кактуса – не оторвешься: бздряк-дзынь, и снова, и снова. Кофейный сервис закончился. Пришла очередь чайного. Кухонный пол покрывался неромантическими черепушками. Мордочки побитых вдрызг кошечек на чайных чашечках. На чайных чашечках мордочки побитых вдрызг кошечек. На чайных кошечках мордочки побитых вдрызг чашечек.
Родительский кот Степан испуганно таращился с балкона.
Я обнял маму. Она вырывалась, конечно, но я ее держал крепко.
- Пусти, пусти, ты такой же, как отец.
- Еще хуже, - сказал я и поцеловал маму куда пришлось.
Она отворачивала голову. Я целовал в голову.
Она прикрывала щеки. Я целовал в руки.
Она зашаркала ногами по черепкам, уходя в ванную.
Я опустился на колени и сгреб черепки к себе поближе.
День заканчивался.
А был ли он?
Был ли?
Черепки, сплошные черепки. Я валил черепку в кучу, куча росла. Высокая куча, почти до колен. Немного не доставала. Я вытащил из шкафчика свою любимую вазочку и разбил. Теперь как раз хватило. В самый раз.
52.
Ветром нынено и хлесты с переволном,
Оскар скоро, всем сестрам дадут по серьгам,
Статуэток смена трогательней, Сеня,
Чем твои слова, ползущие по стеньгам.
53.
Улица пританцовывала мне навстречу. Она была пьяна. Я пригляделся и осознал: мир дымчатый, друзья мои!
- Дымчатый? – спрашивал я у прохожих, и те кивали головами.
- Дымит мир-то, все в чаду! - хахалился паренек с авоськой, из которой торчали копья зеленого лука.
Я присмотрелся – это был Себорей.
- Себорей, - окликнул я его, - Куда с луком путь держишь?
- Се – Боря я, - сказал парень и ткнул себя в грудь пучком лука. – Иду горя пытать, а не от горя лытать.
И ушел в сторону горьких гор.
Я дошел до рынка. В темноте он напоминал развалины. Медленно шагал я между картонных рядов, шершавых крыш, облезлых газет.
- Дяденька, хошь пи… рожка с начинкою? – спросил меня какой-то в мохнатой шапке.
Я ничего не ответил, мимо прошел. Мохнатая шапка еще покатилось за мной пару прилавков, потом отстала.
Впереди меня кто-то шел. Я пытался его догнать, но – никак. Я прибавлял шагу – и он. Он замедлялся, и я зачем-то сбавлял скорость.
- Кто ты? – взывал я.
- Кто я? – напевал он.
Действует на нервы, пакостник, и обернуться не хочет.
Меня окрикнули. Я оглянулся на ходу – сзади, метров в пяти-десяти ворочалась фигура.
- Кто ты? – орала мне вслед фигура.
- Кто я? – удивился я нелепому вопросу.
Дошел до дома заполночь. Ночь пополам треснула перед моим домом. Пришлось собирать. Черепки были мглисты и склизки, не чета чайным и кофейным. Валю черепки один на другой, почти до месяца достало. И все ж таки пары черепков не хватило. Стал я искать, чего бы водрузить, люблю завершенность. Ничего нет.
Как – ничего? А голова - чем не черепок?
И тут слышу:
- Не замай, Семен.
Дядя Боря вылезает. Весь в компосте. Тащит с себя сапог.
- На, - говорит, - водружай.
Я закинул сапог на полночную кучу – как раз достала до месяца. Любуюсь Куча ночных черепков, а них – компостный сапог.
- Слушай, Сем, последнюю сказку – о былинке и люблянке.
54.
Сказка о былинке и люблянке
Не жила однажды былинка. И не было у нее люблянки. Потому, что и люблянки тоже не было.
Не пошла как-то былинка путешествовать по белу свету. И не превратился белый свет в черный. И не взяла былинку оторопь и не села она под бел горюч камень Негодяй в поисках ответа на важнейший вопрос. Отчего ее, такой славной, такой неотчетливой былинки нет, а вполне отчетливый и беспредельно горючий камень Негодяй – тут как тут.
И тут идет мимо дорога. Стройная, как березка.
Не плачет былинка.
- Чего не плачешь, дурра? – спрашивает дорога.
- Как же мне не плакать, дорога! Ты есть, а меня нет и никогда не было.
- И давно ли тебя нет, дурында?
- Дак с самого рождения и нет.
- А откуда ж тогда столько соплей на камень натекло?
Пощупала былинка камень – весь в соплях. Чудно. Ее самой нет, а соплей – навалом.
Задумалась былинка. А дорога опять нудит:
- Хватит тут слезные сопли лить. Люблянку пора искать.
- Кого? – изумилась былинка.
А, может, и не изумилась.
Дорога дальше пошла. Или на месте осталось. То ли, идет на месте. То ли, стоит на ходу.
Былинка приободрилась, поднатужилась, да сдвинула бел горюч камень Негодяй с сопливого места. А под ним!.. – Компостный сапог.
Надела былинка сапог, притопнула. Запах пошел – превонючий. А все ж таки - сладкий!
- Есть я! Я – есть! – закружилась на месте былинка.
И понесло ее по краям да окоемам.
А уж потом – и в центр.
К люблянке.
- Нашла я тебя – кричит от радости былинка.
А люблянка улыбается. Иначе не умеет.
55.
Дядя Боря, подпрыгнул, схватил свой сапог и убежал. Куча рухнула мне под ноги. Я помочился на нее, да пошел спать.
57.
56 частей было в моем сне. Меня вешали, четвертовали, обливали кипятком, расстреливали, топили, засовывали в нос ушные палочки, давали феназепам и но-шпу, пристально смотрели в глаза, читали вслух «Как нам реорганизовать Рабкрин», говорили по душам, издевательски помалкивали, заставляли пить залпом бутылку граппы, надевали мохнатые тапки, сажали на суккуленты, подстригали ногти электрическим лобзиком, кормили маслом вперемешку с маргарином. Я разливался соловьем, лез напролом, разбивал кулаки о пакгаузы, мыл скворечники, чистил сельхозблоки, отправлял по почте сапоги, набитые гнилым кунжутом, шептал простуженным контртенором, торговал радиоактивными хомяками, отбирал обглоданные мослы у рысей, командовал уязвленными проститутками, корил других, укорял себя, сыпал перец на покойников, щекотал половые органы, выкладывал мозаику из кукольных глаз. Меня обдавало то потом, то сейчас, я бедовал и блядовал, будировал и аплодировал, так что с ладоней слезала кожа, я смотрел на белый свет и видел серые тени, меня преследовали жирные нищие, я изнывал от дел и томился от безделья. Мной помыкали, мне тыкали, от меня плевались, в меня целились, за меня отдувались, со мной отрекались и пререкались все то время, пока я был занят чем-то другим – дымоходами, скалолазами, ледорубами, медоедами, синекурами, артишоками, претендентами, дармоедами.
Дармоеды особенно досаждали.
58.
Проснулся я от взгляда убийцы. Он смотрел через окно на спящего меня и сплевывал. Кроме того, он поскрипывал зубами, словно перетирал крошки от сухарей. Звук был такой, как если бы кто-то на оконном стекле писал слово «удод». Когда я подошел к окну и прижался к стеклу влажным лбом, никого уже не было. Только с той стороны стекла было написано «додУ».
«Доду, доду…» - сосредоточенно размышлял я. – «Что это значит? – Дойду? Додумаю? Додуду?
Часовая стрелка старых, еще дедовых ходиков указывала строго вниз. Расхлябанная минутная торчала перпендикулярно вверх. Заметил я еще пару трясущихся стрелок – они расплывались в потемках комнаты. Первое утро апреля канючило, клянчило, било взопревшим челом.
Додуду?
Я вытащил очередной лист и написал сверху очень крупно: «Додуду ли я?» Потом подчеркнул надпись синим маркером и принялся обводить буквы.
Где-то скреблись – настойчиво, даже назойливо. Я не обращал внимания. Обводил буквы, прикусывая кончик языка. Потом увлекся, клацнул зубами и завопил от боли. Побежал в ванную, полоща языком во рту. Соленая кровавая жижа стекала по губам на серый кафель раковины.
Я долго тер сухими ладонями лицо, яростно чесал голову, давил на брови костяшками пальцев. Минут пять неотрывно рассматривал себя в зеркало, давясь от изумления. Пытался захватить щепотью и выдернуть щетину на подбородке. Затем включил душ и стал мочить руки до локтей, пошел с мокрыми руками на кухню, схватил спичку, попытался зажечь плиту. С рук капало, пальцы жгло, во рту было полно слюны.
Из дома я вышел украдкой. Вечерней кучи не было, по проталине бродил соседский кот Кутя и надменно принюхивался к кучками перезимовавшего дерьма.
Я вспомнил полную кличку кота и позвал его: «Кутерьма, Кутерьма».
Кот передернул плечами и потрусил к Тарусе. Душить гусей.
59.
К родителям я подошел в половине десятого. Я должен был помочь папе погрузить тюки. У подъезда уже стояла грузовая «Газель», водитель зевал в кабине.
Дверь отворила мама, сразу же фыркнула и убежала на кухню. Из комнаты выглянул отец.
- Ты когда пришел? – спросил он тягуче. – Ты знаешь, который час?
Я взглянул на часы в прихожей. Они показывали полдень. Я забормотал извинения, но отец плюнул на пол и скрылся в комнате, хлопнув дверью.
Я прокрался на кухню. Мама с кем-то разговаривала. Я разглядывал ее силуэт на фоне синего окна, сквозь которого лились потоки дневного света. Мама, мама, повторял я про себя, не смея продолжить. Она обернулась и поманила меня пальцем. Нехотя отклонилась в сторону. Напротив мамы сидел убийца. Он пожирал молочный коржик. Открывал рот и откусывал сразу половину коржика. Мучительно глотал, почти не пережевывая, но его зубы все равно выбивали: «удод, удод».
«Мама, это убийца», - попытался я сказать маме, но три слова вздыбились кучей и я никак не мог понять, как ее разобрать.
- Мааа, эу ца, - наконец сказал я.
Убийца рассмеялся и ткнул в меня средним пальцем.
- Волнуется, - сказал он и стряхнул крошку, прилипшую к подушечке.
Мама небрежно посмотрела на меня через плечо. Этот взгляд было трудно вынести. Я залепетал что-то как ребенок. Долго я лепетал, долго, а убийца все пропихивал в себя новые коржики и кивал моей маме.
- Хватит тут стоять, - сказала мама. – Извинись перед отцом. Он обижен.
- А как же вещи? – туповато спросил я. – Тюки сносить?
- Решай с отцом, - сказала мама. – Делайте, что хотите. Сами разбирайтесь, сами.
По пути к отцу я зашел в ванную. Подставил голову под холодный кран. Вода потекла за шиворот, я фыркнул, сплюнул. Выходить из ванны не хотелось. Стоять бы тут и смотреть на себя со стороны. Вода льется за шиворот – месяц, другой, а я фыркаю и плюю. Словно папа.
Отец лежал на диване и поглядывал на телеэкран.
- Смотришь? – спросил я робко. – Что дают?
Отец приложил палец к губам. Я понимающе кивнул.
На экране расплывался в улыбке убийца. Его пухлые губы расторопно шевелились. Кончик носа подергивался.
- Правильно говорит, - сказал отец. – Слушай внимательно.
Я прислушался. Но убийца уже ничего не говорил. Он смотрел через мое плечо и взгляд его был полон сожалений.
- Хороший человек, - подытожил отец. – Не то, что ты.
Я закашлялся и выбежал из комнаты. Щеки мои горели. Сердце бешено колотилось. В виски набились цикады. Я взглянул в зеркало. И увидел – мразь. Жалкую. Безобидную. Но все же – мразь.
Я выбежал из подъезда.
- Куда? – заорал мне вслед водитель. – А грузить кто будет?
Я бежал по улице, глотал жемчужную горечь, и меня душил плотный доходчивый мат.
60.
У цветочного ларька стояла небольшая очередь из сержантов-срочников. Они держались за руки и раскачивались, прикрыв глаза. Каждый купил по две гвоздики.
Когда подошла моя очередь, я заглянул в окошечко и увидел давешнего знакомого – егозливого старичка, бывшего завсегдатая клуба одиноких сердец лейтенанта Чернобоя.
- Где же маркиза? – спросил я.
Старичок обрадовался вопросу.
- Померла! –воскликнул он. – Прямо на рабочем месте. Взяла и - …
Он схватился за сердце, закатил глаза и юркнул под прилавок.
- Вот так и померла, - объяснил старичок, вновь показываясь из-под прилавка, - Даже Кантен де Ла Тур был не в силах.
Дрожащими руками я подхватил пять червленых роз и держась подальше от сержантов, грузившихся в катафалк, побрел к Лене.
61.
Лена приоткрыла дверь на цепочку.
- Чего тебе? – спросила она, нервно поправляя халат.
- Мне?
Я смутился, принялся тыкать розами в щелку.
– Тебе-то вот розы.
Лена порозовела и посоветовала.
- Разверни стеблями. А то сломаешь.
Я развернул розы, направил стебли в квартиру. Лена их там подхватила, ойкая, мы вместе потащили розы, оберегая лепестки. Лена посмеивалась, я тоже приободрился, загулькал.
- Ты как голубь курлычишь, - сказала Лена. – Мальчишка.
Мне захотелось ее обнять и я, не раздумывая, просунул кисть вместе с розой в дверную щель. Но уколол пальцы, ойкнул и сломал бутон.
- Идиот, - сказала Лена, испуганно оглядываясь.
В квартире заныло. Словно одновременно все дверные петли завыли, жалуясь на свою горемычную жизнь.
- У тебя кто-то есть? – выпалил я. – Глеб вернулся? Ты скажи, если вернулся. Я даже рад.
Лена погасила свет в прихожей. Она пристально рассматривала меня из темноты. А петли все ныли и ныли, теперь уже совсем тонко и сухо – «ууууудод».
Лену развернули, повлекли в темноту. Горько запахло средней весной. Я услышал шепот. Шорох. Шелест. Шлепки. Упала вешалка. Заворочались тени. Зазвенел столовый хрусталь. В соседней квартире пилили пополам Фиорилло. Хаски задохнулся от тоски. Из сиреневой мглы прихожей смотрел на меня карий глаз убийцы. У меня ломило виски. Пополам с содовой. Я вышел на тошнотворно свежий воздух, подставил лицо апрельскому дождю.
Я глотал смрад и стыд. Из подъезда вышел убийца, нахмурился, поднял воротник плаща.
- Лена просила передать вам вот это, - сказал он, и подал мне свою руку.
- Что это?
- Моя рука.
- Лена просила передать вашу руку?
- Именно. Чтобы вы ласкали ее, как я.
С этими словами убийца вырвал свою кисть и наотмашь бросил в меня.
62.
Я несся по улице и ловил взгляды прохожих. Во взглядах я читал осуждение: вот бежит человек и тащит подмышкой оторванную кисть. Нехорошо.
Шмыгнув за гаражи, я воровато оглянулся. Убедившись, что никого нет, кроме двух маленьких девочек, выгуливавших таксу, я приподнял плечо. Кисть упала под куст шиповника, в окурки. Прямо над своей головой я увидел балкон. Там стоял кривой татарин и махал мне сигаретой.
- Я не смотрю! – дружелюбно сообщил мне татарин и продолжал стряхивать пепел на мою голову.
Мимо меня пронеслась такса и вцепилась в оторванную кисть. Я вышмыгнул на улицу и тотчас же меня едва не сбила с ног группа подростков. Они бежала за кем-то, угрожая расправой.
Я бросился на выручку. Расшвыривая по сторонам прохожих, достиг отставшего преследователя и схватил его за плечо.
Это была девушка. Ее нежное лицо пылало негодованием.
- Зачем вы меня держите! – воскликнула девушка. – Отпустите немедленно!
- Как вам не стыдно! – попытался урезонить я девушку. – Все на одного.
- Он – жирдяй, - объяснила мне девушка. – У него на пузе резиночки.
Метрах в пятнадцати от меня готовилось нехорошее. Преследователи образовали кольцо и с кем-то громко переговаривались. Я страшно разволновался, подлетел к кольцу и попытался его разомкнуть.
В центре кольца стоял здоровенный верзила. С глуповатым и испуганным видом он смотрел на гневных подростков, распаренных от быстрого бега.
Я смутился.
- Простите, извините, обознался.
Толпа грозно молчала.
- Вы будете его бить? – спросил я.
И немедленно устыдился, припомнив давнишнюю историю - про себя, Генку Дятлова и Преферанса.
Подростки помалкивали. Верзила вздыхал. Я не знал, что говорить.
Мы переминались с ноги на ногу и молчали под холодным апрельским дождем, под стыдливым апрельским небом.
Всем стало скучно. Подростки брели прочь. Девушка, которую я трепал за плечо, пристально смотрела на мои ботинки. Я поджимал ноги, выворачивал ступни, пытаясь скрыть грязь.
Потом и она ушла.
Мы остались вдвоем с верзилой. Он пробурчал, что ему некогда стоять на улице, что ему давно пора идти встречать сына.
Он боролся с желанием протянуть мне руку. И только глубже засовывал ее в карман брюк, сжимая в кулак.
- Иди на хрен, - неожиданно сказал он.
И ушел.
Улица совсем опустела.
Я остался один. Если не считать показавшегося вдали сына и убийцы, который вел его за руку.
63.
Мимо обрубленных тополей и зябких берез, урн и поддонов, заборов и витрин.
Мимо многоэтажек и малооэтажек, по зябкому асфальту, разминая хлюпающую грязь.
Минуя магазины и парикмахерские, кинотеатры и офисы.
Приближались они и делали вид, что меня не существуют на белом свете.
А я вспоминал время, когда долгими ночами носил Глебушку на руках. Я носил его на руках, пока он таращился на меня и пускал веселые пузырики. Ему не хотелось спать, а мне – ужасно хотелось. Но я носил его на руках, пока сам не начинал пускать грустные пузыри, а Глеб задремывал, укладывая головку на мое плечо. Но и во сне он продолжал пускать веселые пузыри, и я клал его в кровать и шел на кухню пить чай.
Я пил приторный чай и высматривал за окном звезды. Глаза мои слипались и звезды за окном тоже слипались. Потом звезды принимались выдувать пузыри, и мне приходилось укачивать звезды, чтобы они не разбудили Глеба.
До утра я укачивал звездные пузыри, пил приторный чай и ложился спать уже под утро, когда звезды засыпали и пузыри осыпались снегом или дождем. А иногда – сахарными крошками на кухонном столе.
Они прошли около меня, синхронно выдувая пузыри жвачки. Мне даже не пришлось сторониться. Они прошли сквозь, и меня накрыло их пузырем. Они шли обнявшись, а потом убийца сказал моему сыну:
- А где твой папа?
И сын звонко рассмеялся и ответил:
- В пузыре.
Я не мог пошевельнуться.
Я стал пузырем. Меня бесконечно жевали и выдували. А потом лопнули.
64.
Cквозь ошметки пузыря, налипшие на мои щеки и уши, я слышал, как плачет Сергей. Он жаловался мне, что на половине Гольянова у него отнялась левая нога. До тещи, проживающей в Костромской области, он добрался на одной правой, но и она отсохла на последнем повороте к тещиному дому. Помогая себе подбородком и втыкая ребра в суглинок, по-пластунски Сергей долез до тещиного дома, и поскребся по наличнику. Теща открыла окно и вылила на Сергея ведро отборных помоев.
Униженный и оскорбленный, он пополз обратно в Москву, на ходу изобретая семантическое ядро.
Демидов встретил его возле Выксы.
- Как ты туда попал? – спросил я Сергея. – Выкса южнее Мурома. Зачем ты из Костромы на Муром пошел… пополз?
- Не важно, - огрызнулся Сергей. – Меня подвезли… подтащили.
Демидов наорал на Сергея, объявил, что он ни на что не годен, как и я. И что он с нами еще разберется, когда съездит по делу, предъявит, что надежды глоток не помогает чалить срок.
65.
Неожиданно стемнело. На улице вновь показались люди, но были они ненастоящие. Их несло ветром, растаскивало по сторонам, а то сбивало в кучи. Сергей убрался восвояси, я даже не успел бросить на него прощальный взгляд. Я вновь услышал звук диджериду, но самого инструмента видно не было. Очевидно он существовал в моем воображении, как и все, что я пережил за этот месяц. Я попытался убедить себя в том, что задремал после ужина и что убийца, топивший щенков, мне приснился. Но тут же осознал, что убийца топил не щенков, а котят, и сам факт ошибки доказывает, что все происходит здесь и сейчас. Моей жизнью распоряжается убийца: он доказал необязательность моего присутствия в мире. Но оставалась еще капля надежды.
Я звонил по очереди Лене, родителям, Сергею, Демидову, и слышал как в трубке шипели и потрескивали под дождем мокрые поленья. Разговор гас, не успев разгореться. Со мной прощались. Со мной объяснялись. Передо мной даже оправдывались. Но никто не верил, что я существую.
Я пошел по улице, превращаясь в ненастоящее. Меня подхватил ветер, потащил, закрутил, подбросил и швырнул в кучу других ненастоящих. Мы лежали друг на друге и нас засыпал апрельский дождь, мокрые хлопья пропитывали нашу одежду, проникали внутрь тела. Мокрый снег не холодил и не согревал. Сердце билось уже не гулко, а протяжно, как старые часы с боем. Сердечный звук передавался мостовой, катился по площадям и улицам, резонировал со вдохами оцепеневшей под снегом травы, замирал и гас.
Потом пришел дворник и смел нас в кучу. Мы лежали пластом, лицом к лицу, лишенные тел и душ. Дворник вытащил меня из кучи, свернул трубочкой и посмотрел через меня на звезды.
- Епт! – сказал дворник, - Окуляры совсем запотели.
Я узнал голос дяди Бори, но ответить ему не смог. Окуляры, билось в отсыревшем сознании, окуляры запотели. Кому нужны потные окуляры?
66.
…
67.
Потом уже дядя Боря рассказал, что принес меня домой за пазухой, и поначалу разостлал перед печкой. Потом, засомневавшись, вытер об меня ноги, вымыл мной пол. Затем бросил на батарею, правда, слегка разгладив. К утру я высох, покоробился. Дядя Боря выстирал меня и вытряхнул на свежем апрельском морозце. Скрутил жгутом, шмякнул пару раз об тополь и посадил на лавку пить чай.
68.
Я выпил чаю и пошел в баню.
Когда некуда и незачем идти, следует идти в баню.
Но в какую баню пойти лучше всего, когда некуда и незачем идти?
В юности я об этом не задумывался. В юности всегда есть куда идти, а уж поводы, чтобы пойти, всегда найдутся.
Повзрослев, я пришел к выводу, что в бане вообще делать нечего. Ибо глупо же, рассуждал я, идти в баню, если никуда не хочется, да и незачем.
Еще позже, понабравшись пресного опыта и невинной мудрости, я понял, что баня – то самое место, куда стоит захаживать. Хотя бы иногда. Раз в год. В пятилетку. В жизнь.
Для бесцельной моей цели подошла бы любая баня. Например, Дьяковская. Чем же она плоха? Ну, да, собираются в ней дьяки, что ж такого? Дьяки – тоже люди, хотят мыться.
С другой стороны, какой же современный дьяк пойдет в баню, даже специализированную? – Никакой! Сегодня все люди, занимающие солидное общественное положение, предпочитают мыться в ванне или под душем. А уж если выбирают баню – то особенную, с персональным бассейном и девушками, разносящими пиво и воблу. Общественные бани – удел дряблых кошельком и хилых духом. Но у меня были кое-какие сбережения в виде раритетных купюр с изображением усатого американского президента. В таком случае, дрябл ли я кошельком? – Маловероятно. Хотя работу я провалил, и Гровер поглядывал на меня укоризненно. Значит, какая-никакая, а дряблость кошелька присутствовала.
Ужасные рассуждения. Невероятно изматывают.
Я плавно встал, взял мочалку, мыло, полотенце, шлепанцы, простыню, засунул все в сумку.
Пришел дядя Боря, оглядел меня от пупка до подглазин, сказал:
- Уже собрался. Ну, вали.
И подсунул мне термос китайским чаем «Ся-пей-ся-лей». Аромат у него сумасшедший. Восстанавливает душевное равновесие путем тотального угнетения окружающих.
Надо бы веник еще, да веника-то нет. В бане без веника грешно.
Я плавно сел и загрустил. Сижу и грущу. Грусть струится по коленям, стекает на щиколотки, омывает пятки. Не заготовил я веников летом. А баня без веника как невеста без подвязки.
- Иди, - говорит опять дядя Боря. – Там купишь.
И выпихнул меня из дома.
А выпихнул он меня, как оказалось, - рано. Иду я, выпихнутый, и воздух мелко-меленько рассыпался передо мной. Присмотрелся я, принюхался, а воздух – фиолетов. И пахнет стрекозиной слюдой. Иду, расшвыриваю сугробки ногами, а мимо меня плывет фиолетовый воздух, как фрегат «Не надо». Идет дворник с ломом, ковыряет воздух и слизывает фиолетовое с лома, будто пломбир. Идет баба толстая, неопрятная, смеется, живот ходуном ходит. Чего, спрашиваю, баба, смеешься. А она не отвечает, только хохочет. И мой живот заходил ходуном. Вдругорядь не смеши меня нарочно. Смеши, говорю, невзначай. Присмотрелся я затем к слову «невзначай», помял его в ладони, поднес к носу, а оно пахнет жженым сахаром. Да как же быть теперь с ним, ведь я жженой сахарок обожал в детстве. Возьму, бывало, сосу с полдня. На ночь тоже брал, всю постель извазюкаешь к утру, прабабушка ругается, аж брови ходуном ходят. А я смотрю на прабабушку и так мне жалостно, что она умрет, и не будет уж ругать меня и брови остановят свой бег. Бровь, где твой полет? Время скушало брови, и дуги, и оси, и надменность, и смехотворность.
Но что-то осталось. Что-то фиолетовое, прекрасное. Не выпить, не съесть. Не разломать, не приспособить. Не поймать, не упустить. Что это?
Иду – дурень дурнем, каюсь неизвестно в чем. Иду, а грачи в карты играют.
- Черви – козыри! – орет один.
- Трефы – рифы, - возражает второй.
Третий вообще крестится. Четвертый задубелый, как бубенец с мороза.
Причесать бы его перышки, да мамки у него нету. Спикировала в компостную кучу, да там и осталась. Нашептывает оттуда дяде Бори сказки-присказки.
И тут я увидел девочку. Ту, изумительную. Что чавкала по мартовским пророслям, надувала легкую губу.
Она стала взрослой женщиной, думаете вы? Как бы не так! Изумительные девочки засахариваются. Их можно облизывать, как жженый сахарок. И ничего им не будет.
Идет навстречу и улыбается.
Было у вас такое, что губы сами складывались в улыбку? Держишь замочком, зачерствелым крендельком, а они вдруг расползаются и в уголках рта поселяются игреневой масти кони. Встают на дыбы и бегут по сторонам. Вот и нечаянная улыбка. Не было ее – и не надо. А появилась – навек поселилась.
Улыбаюсь навстречу.
Не дойдя шага два, девочка исчезает – и появляется за моей спиной. Я не оборачиваюсь, берегу улыбку. Держу ее из последних сил. А она сползает с лица, кони возвращаются в стойла, понурые и хмурые. Выпеченный кренделек быстро подсыхает, на амбар водружается замочек.
До свидания, девочка. Изумительная моя.
Окуляр протри, скотина, ору я себе. Это не девочка, а убийца.
Да и ему я уже не нужен. Иду, мертвый, смеюсь.
69.
Захожу в Дьяковскую. Пустыня. На мокрых кафельных плитках следы банников.
Из окошка кассы торчит пушистый локон. Говорю ему:
- Один, пожалуйста.
Локон воспаряет, является дородный серафим с обветренными губами. Забирает мои деньги, дает свой билет.
- Веники есть? – спрашиваю без надежды, а тем временем считаю серафимовы крылья.
Серафим трясет головой, извлекает из-под откуда-то букет веников. Березовый, дубовый, липовый, пихтовый, крапивный, эвкалиптовый.
Требую: «Дайте все!»
Тот подсовывает под мой нос дулю и показывает на пальцах: один, мол.
Я смотрю на него жалостливо. Он ухмыляется. Какой выбрать? Ну, пусть, березовый. Лезу в портмоне за купюрой с Кливлендом, сую в окошко. Серафим кивает, выставляет козу из пальцев. Я догадываюсь: одна купюра – один веник. Врешь, дородный, не отступлю. Кидаю еще пять купюр в окошко. Серафим выдает мне четыре веника. Остается крапивный. Серафим усмехается, требует оставшиеся бумажки. Я швыряю их в окошко, забираю крапивный.
Крыльев шесть, как положено. Шесть веников – шесть крыльев. Обслужил по высшему разряду.
Серафим выставляет большой палец. Я отмахиваюсь, иду в предбанник.
Что за история! – И тут никого. Неужто – первый?
Оборачиваю растерянное лицо к шестикрылому, а тот уже обслуживает Нину Алексеевну собственной гранд персоной. Серегина теща стоит с пихтовым веником подмышкой. Заменила болонку веником и подмурлыкивает.
- Ой! Это вы!
Покраснела.
- Где бы встретиться! А я подругу жду!
Дверь распахивается, заходит Марфа Константиновна. Видит меня – и сияет.
- Вот он, - сообщает Нине Алексеевне, - тот молодой сказочник, о котором я рассказывала.
- Снежинка-потаскушка, - понимающе кивает Нина Алексеевна. – Да ведь этот молодой человек и Вовенарга знает. И Ларошфуко жалует.
- Все хорошие люди сегодня поутру идут в баню! – торжественно объявляет Марфа Константиновна и принимает липовый веник у шестикрылого.
- А Сережа-то – свихнулся, - печально говорит Нина Алексеевна и слегка мрачнеет. – Я его все с вечера в баню звала, а он огрызается только. Все какие-то помои вспоминает.
- Чем же занимается Сергеюшко? – спрашиваю нараспев.
- Вопросы ищет. Совсем дурной. Умные ответы находят, а он с вопросами не уймется. Пристал ко мне, чего я больше всего хочу. А я ему, лешему, как наши хоккеисты с финнами сегодня сыграют – вот о чем душа болит. Со щитом или под Набоковым?
- Пойдемте, Нина Алексеевна, - теребит подругу Марфа Константиновна. – Надо.
- Али приспичило? – хитро смотрит на подругу Сережина теща. – Ну, пойдемте, пойдемте. Ибо прав был Гейне, единственная красота – это здоровье.
И уходят, помахивая вениками.
70.
Пока я беседовал с почтенными дамами, в мужское отделение подтягивался народ. Чинно и торопливо, благообразно и суматошно, методично и меланхолично шли мужчины с портфелями и рюкзаками, котомками и сумками, вещмешками и пакетами, из которых высовывались бороды веников. Кое-кто выпрашивал веник у шестикрылого, засовывал лицо в сухие копны и шумно вдыхал сухие ароматы. Веники трепетали в руках знатоков, как вещие птицы. Тонкие ветки, как птичьи клювы, тыкались в ладони, искали, чем поживиться. Да пока было нечем – ладони с утреннего апрельского морозца были что пустые половники.
Заходили и женщины – все больше дородные тетушки в куртках на синтепоне, но были и задумчивые старушки. Они вперевалочку подходили друг к другу, а потом бойко хватались за рукава и устраивали веселую шепелявую возню.
Дверь распахнулась – обществу явилась кареглазая девушка задиристых лет. Она весело оглядела притихшее собрание и тряхнула черными кудрями. Пока девушка снимала куртку и шапочку мужчины не сводили с нее беспокойных глаз. Тетушки хмурились, бабушки громко шептались: «Ладная, ладная…»
- Вперед, - скомандовали из банного отделения.
Я узнал голос Пахома Вискряка.
- Неча тут расстаиваться. Чай не за сиськами пришли, а за паром.
- Не за сиськами, не за сиськами, - забормотали пристыженные мужики, и рванули в предбанник.
Женщины исчезали в противоположных дверях. Девушка неожиданно подмигнула мне и показала язык. Я вздохнул и поплелся следом за мужиками.
Кое-кто уже разделся и шагал в мыльное отделение. Другие кряхтели, почесывались, приглаживали волосы, развешивали свитера и брюки, брезгливо комкали носки, переобувались в шлепанцы, елозили на сиденьях, выставляли морсы, чаи и бутылки с холодными пивом, перебрасывались словечками, зевали, блаженно щурились и говорили «брр», косясь на заиндевевшие окна.
Из мыльного отделения выползал парок. Сидевший напротив меня суровый бородач расширил ноздри, заглотнул пар, и осклабился. Но вдруг воззрился на меня, запустил правую руку в бороду, и пару раз остервенело ее дернул.
- Семен, ты ли, чо ли? – хрипло осведомился бородач.
Я присмотрелся. Борода потянулась мне навстречу и ощетинилась.
- Генка я, Генка Дятлов, - сказал бородач и хлопнул себя по ляжкам.
Точно, это был Коршун - невозможно заросший и веселый.
Услышав имя Дятлова, справа приподнялся желтолицый пузач и сощурил глазки. Они метались с Генки на меня и обратно.
- Вот жеж, - сказал пузач и почесал живот. – Сокамерники…, тьфу ты. Однокашники, - вспомнил слово желтолицый. Гена, Сеня!?
Генка рывком поднялся навстречу пузачу и заключил его в объятия. Предбанник уважительно замолчал. Все глядели, как восторженно обнимаются два голых мужика. Причем лицо одного полностью утонуло в бороде другого, а второй оттопырил зад, чтобы дать дорогу животу первого.
Вторым был Андрюха Преферанс. И в бане нет покоя от воспоминаний… Я юркнул в мыльное отделение.
71.
Какой-то дядька уже рьяно мылился, на голове его был пенный шлем с пузырчатым шишаком. Все остальные толпились у входа в парилку и бросали косые взгляды на клочья мыльной пены, обильно орошавшие каменный пол.
- Помочалиться и дома можно, - осудили мыльного.
- А я! – задиристо выкрикнул он, - Грязным в парилку не хожу!
Намыленный забежал под душ и завертелся как веретено. Шишак мгновенно растаял, пена потекла по бокам и бедрам.
- И то правда, чистым-то лучше, - нестройно пронеслось по толпе.
Несколько человек бросились за шайками и мылом, стали спешно натирать себя мочалами. Другие закусили губы и продолжали упрямо топтаться у парной. Поднялся банный ропот – осмысленный и требующий пощады.
- Скоро ли? Чего томишь? Пускай давай! – шипел и клубился ропот.
Дверь парилки распахнулась, явился бесстрастный Пахом Вискряк.
- Пахомушка, не подведи! – взвизгнул один, совсем уж хилый баней.
Пахом придавил толпу суровым взглядом, пожевал глазами собрание.
Набрал воздуха в легкие и гаркнул:
- Можна!
72.
Пар стал колом. И увидел Пахом, что это хорошо. И запустил народ в парные кущи.
73.
Боже мой, Боже, зачем ты создал пар? Зачем ты создал эти жаровни пара, эти паровые шары, эти мешки, эти увальни, эти надутые жаром паровые шкуры?
Зачем ты создал пар сухой и влажный, зачем ты захотел разукрасить народ как молочных поросят, зачем приделал им красные носы, алые щеки, пунцовые плечи? Зачем придумал пюсовые чресла и ягодицы цвета жженой умбры? Зачем эти бургундские уды и розовые гекзаметры? К чему бордовые подбородки и карминные локти и сангиновые запястья? Где еще отыскать такие животы оттенка бисмарк-фуриозо и тициановые бока? О чем расскажут нам плечи цвета кардинал и о чем шепчут киноварные губы?
Жар – огненно-геенный жар, спасительный и рокочущий умял банный народ. Умял и пустил соки из томных и вертких, стыдливых и бесстыдных, кривобоких и ладноруких. Парное братство воссело на полки и вытаращило глаза.
Братство жара млело. Дышало и сопело. Кряхтело и постанывало. Томилось и крепилось. Сияло и солонело. Пот шибанул морской слезой. Соленый, жгучий, как тикай океан.
Я прислушался. В полнейшей тишине сопенья и кряхтенья вдруг послышался тоненький, как луч света в банном царстве, голосок курдюмского мужичка:
- Саааамое синеееее море – Чеееееерное море моё.
Мужичок-бедолага закашлялся, зашелся хрипушками. Его погладили по головке, положили на полок, там он и затих, углубляясь в ароматы отглаженных раскаленными попами деревянных досок.
Я не сводил глаз с чьей-то мохнатой груди. Грудь медленно нагревалась и гудела как барабан. Волосы приподнялись и пошли волнами, словно их колыхал беспечный осенний ветер.
- Холодно, - выдавил кто-то из последних сил. – Парку бы под…
Но, не договорив, свалился на руки товарищей. Его унесли.
Народ стал редеть. То один, то другой отваливался от братства. Дверь парилки беспрерывно шлепала. Заходили сухотелые, уходили, покачиваясь, пропаренные. Все имели разумение – первый нагрев без веника. Один было взмахнул, но веник у него отобрали и приструнили. Он побледнел от стыда, забрался под лавочку и свернулся розовым комочком.
Я стоял недвижим. Воображал себя кровельной крышей, нагретой весенним солнцем. Апрель струился и не было ему конца, и начала не предвиделось. Я слизывал пот и раскусывал. Слижу, надкушу, как абрикос. Соленый, а все ж сладкий. Приторность необычайная. Лизнул я свое предплечье – чистая слива. А коленка – арбуз. Ну, думаю, надо до пальцев ног достать. Там уж, наверняка, дыня. Тяну правую ногу ко рту, да мешают мне, дергают за ухо.
- Вставайка, - говорят.
Ну, как же так! Зовут Вставайку, а тиранят меня.
Посмотрел я недовольно, кто мешает. А это какие-то оранжевые черти: с бородой да с пузом. И такие, знаете, черти приставучие, хотят у меня локти отобрать и пальцы покусать, украсть, стало быть, дынную сладость. Я взъярился, да и заехал одному. У него морда деревянная оказалась, я себе всю руку ободрал. Дальше не помню.
Очнулся на лавке в мыльном.
74.
Вокруг меня лежало еще c пяток - мирных и довольных. Все перегретые.
Я побрел под холодный душ.
- Ну, как, оклемался, жар человек?
Пахом Вискряк с вязаной чалмой на голове. На бедрах – кулема, но ногах – розовые шлепки, на руках – рукавицы, в рукавицах – швабра.
- Здрасте, Пахом, Пахом… (как его по отчеству-то?)
- Ферапонтыч я.
- Ага, Пахом Ферапонтыч! Какой парок у вас нынче… забористый.
- Степенный пар, - согласился дедушка.
- Вы не узнаете меня, Пахом …понтыч?
Пахом прищурился, осмотрел меня ниже пояса.
- Не видел я раньше энтого изделия в Дьяковской.
Я замыкал, заякал.
- Да мы, да я…Бузявина, помните? Верку спасали от женихов.
- Всякое было…
Пахом задумался на секунду, махнул рукой и браво зашагал через мыльное.
Не узнал.
И тут до меня донесся знакомый визгливый голос. Дверь в предбанник была приоткрыта и там на страже стоял шестикрылый. Я обомлело узнал голос убийцы, который пытался протаранить серафима. Убийца визжал, как свинья, и размахивал, как я понял из последующего диалога, можжевеловым веником.
- У меня радикулит, суки! Пустите!
- Со своим не положено, - размеренно отвечал шестикрылый.
- А мне по тому и этому, что не положено! У меня подагра!
- Не положено.
- У меня отеки. Сыпь на жопе. Пусти!
- Нельзя.
- Убью!
- Не положено.
- Но у вас же можжевеловых нету! А мне надо. А у вас нету.
Тут шестикрылый на пару секунд задумался, тряхнул локоном и твердо заявил:
- Можжевеловые не завезли. А со своим не положено.
Между тем, я сам видел, как в баню шла уйма мужики со своими вениками.
Я осторожно возликовал и спросил у какого-то остроносого прыща, на бедре которого было наколото «Ювеналий».
- Товарищ, а почему этого со своим веником не пускают? Других же пускают.
- Не положено, - отвечал со вздохом Ювеналий. – У него сыпь на жопе. Людям неприятно.
И Ювеналий обвел рукой раздевалку, где рядом со своими тумбочками расположились люди, которым сейчас было очень приятно. Я уж думал похлопотать перед серафимом за убийцу, но нарушать состояние людей не хотелось. К тому же – не положено.
75.
Между тем в предбаннике свежеотпаренный народ завел беседы.
- Благо, что собака пожрала, так бы сгнило все к едреням.
- А ножки свиные были свежие? Сколько вымачивал? Шкуру скоблил?
- Мой дед воевал у Котовского. У меня даже именная шашка есть.
- А у меня - фамильный портсигар Рокоссовского. Мой дед обчистил квартиру маршала.
- Ты смотрел «Вечное сияние чистого разума»? – Вот и помолчи, будь добр.
- У меня один шайнин – там, где Джек мячики об стену швыряет, что твой горох.
- А у нас ни денег, ни сами никуды…
- Елку никак не разберем, внучка все огонечками любуется.
- Чего посадил – чего посадил… Как всегда – перцы, томаты, кабаки. Да вот баклажанчиков немного. Жена потребовала.
- Капусту пока «Зорьку», да «Июньскую». А «Славку» с «Юбилейной», попозже, недельки через две.
- Да я из курей: крылья там, шеи, все, что осталось.
- Э, брат, какой из курей холодец! Только свиные ножки, да слушай сюда. Сельдерейчик, петрушечку, но пряностями не увлекайся. И жирок снимай тихохонько.
- Если на фоне трезвучия Фа мажор сыграть Си и разрешить по полутону в квинтовый До, Си будет звучать как вводный тон. А если ввести Ля, то зазвучит лидийская ступень.
- Си звучит как задержание, дорогой мой. Лидийский красок нет и в помине.
- А ты знаешь, как ему Бондарчук подгадил? Кубрик собрал восемнадцать тыщ книг о корсиканском индюке. А продюсеры после провального «Ватерлоо» - фигу с маком.
- Ничего, он год спустя апельсином во всех захуярил.
- Охал дядя на чужое глядя.
- Из Киева в Дубай за сто баксов? – Да быть не может!
- Мониторь рынок. Авиасейлз, турдом, подпишись на рассылки, будь в курсе распродаж.
- Уважаемый, если вы не слышите лидийского лада, то у вас задержание… в развитии.
- Си – задержание аккордового Ля. И не надо хамить. Дайте лучше квасу.
- Луку сырого напихала, жрешь и рыгаешь.
- Во всем должна быть система: не можешь – научим, не хочешь – проучим.
- Легче брать билеты месяца за два до вылета, пока не пошли наценки.
- Ну если ты будешь в курсе ценообразования компаний – тогда да. Я тебе скину ссыли на несколько лоукостов.
- Не наше дело горшки лепить, наше – горшки колотить.
- Ты посмотри, Сань, какой паноптикум!
- Эх и нравились мне тогда чехи. Штясны, Халупа, Новы. Этот еще… Коржик… нет, Кралик!
- Да что они против наших. Там один Балдерис – заебалдерис. А уж первая троечка всех рвала.
- Я тебя услышал, че.
- Так что пошторми ради дела, набери уэйс-инов.
- У меня два короля. Катофф рейзит 10 баксов, я рирейжу 30 с малого блайнда.
- Что на флопе?
- Рябой оспы не боится.
- Просит, близко не снимай, у меня на носу прыщ.
- У меня случай был, у жениха и невесты руки в сыпи, а я наехал, когда они кольцами менялись – ужас! - красные пятна на весь экран.
- Ты видел несущие из китайской стали? Барахло же! Скрипит, а не звенит.
- Китайский цемент вроде ничего. На нем пол Европы сидит.
- Сбигайдию, понял. А ты отфидбэчь и подфайнтюнь.
- Оттисфачим без оверпромиссов.
- Отходы валю прямо на грядку, и присыпаю землей. Такой урожай, что никакого дерьма не надо.
- А мне без навоза никуда. Одна глина, все заболочено, так что осенью заложил и золу, и песок, и навозец.
- Баттон и большой блайнды – фолд, катофф – коллит. Что делать?
- Я бы играл олл-инн.
- Пригоняешь вагоны по факту, а денежек тю-тю. Надо пробивать, что за клиент.
- Качество – кул! Все вопросы к импортерам, которые лабуду закупают.
- Ветер был сильный, камеру прямо из рук рвало, а он с претензией, ты, мол трансфокатором работать не умеешь.
- Что ты гонишь, отвечаю, ты хочешь, чтобы у тебя рожи в кадре прыгали?
- Это же они в 1976-м, по-моему, раскатали чехов 11:1?
- Нет, в 79-м, тогда в Москве играли. Макарова в символическую сборную включили, а Валерку-то нет. Ну как так!
- Моя прабабушка из Одессы, у нее были две домработницы и прачка, он прожила сто восемнадцать лет, играла в мушку-лентюрлю, и каждый день съедала на завтрак два яйца-пашот.
- А моя прабабка умерла в девичестве и не имела детей.
- Ферапонтыч, можна?
76.
Я узнавал голоса Сергея и Демида, Михрюткина и водителя такси, Глеба и Кандакова, капитана Лебядкина и Максим Максимыча и еще десятки, сотни голосов.
Они щебетали и приплясывали, и я ошеломленно озирался по сторонам, выискивая знакомые лица, но – нет, не находил.
Сухой и влажный, потный и бодрый народ кочевал по предбаннику, пил и чавкал, вытирал рот и икал. Подходил ко мне, заглядывал пристально в очи, и я приветливо улыбался и кланялся, как российский болванчик. Потом голоса изменились, я различил иную речь, других племен и народов. Здесь говорили по-турецки и по-чешски, по-гречески и по-венгерски, гуторили по латыни, балакали по-ирландски, заикались по-файюмски, излагали по-мегрельски, витийствовали по-тибетски, цедили по-аккадски, рассуждали на хаусе, изъявляли желания на свицердюйсе, бредили на ягнобском, проповедовали на тирахи, выговаривали на сян, утверждали на юэ, намекали на бай, вещали по-эвенкийски, вдавались в подробности на японском и выражались на телугу.
Народ опять повалил в парную и я, не желая отставать от народа, повалил в парную тоже. Здесь уже начиналась веничная вакханалия.
Как копья Одиссея, как гарпуны капитана Ахава, как хлопки одной ладони трещали веники. Били по рожам и кожам, мяли ягодицы, сминали в гармошку животы, растирали плечи, вылизывали бедра.
Веники выплясывали гопаки и чардаши, квикстепы и мазурки, расходились в русских плясовых и сучили ветками в бешеном рок-н-ролле.
И мы вновь вышаркивались из парной, вставали под ледяные души, и пили, щебетали, приплясывали и заговаривали зубы: омлет – квикстеп – Душанбе – ривер – трансфокатор – трезвучие – портсигар – горох – Халупа – квас, и снова здорово: онбе – квикатор – Хадуш – трансрох – порзучие – Дулет – госигар – трансфер – кватран – у меня закружилась шея и я подошел к маленькому окошку, из которого валил пар.
Из стеклянного запотевшего окошка, как из глубины давно прошедшего дня, на меня смотрел убийца. Он смотрел на меня неотрывно и пытался диким своим неизбывным взглядом из глубины заброшенного дня достать меня, согреться мной, утешиться моим распаренным духом. Я плюнул в окошко, но из него подул резкий ветер и плевок вернулся ко мне.
Оплеванный сам собой я зашел в парилку - в третий раз.
77.
Народу поубавилось. На оранжевых полках сидели седые старички и грозно раздували ноздри. Рядом со старичками прохлаждались веники.
Один старичок осторожно взял свой веник в жменю и с натугой провел им по розовой груди. Грудь легко вздохнула, старичок трудно откашлялся и подбросил веник ввысь. Как зачарованные, наблюдали все за полетом веника. Тот, сделав тройное сальто, подлетел ко мне и принялся охаживать по бокам. Я взревел вместе с другими старичками и мы все дружно подбросили веники. Те, угрожающе шелестя, заметались по парной, как хищные птицы. На нас хлынули волны дикого пара, он ломил грудные клетки, сокрушал ребра и выдувал поры до размеров дупел. Я ощутил себя бессмертной сосной с несколькими сердцами. Во мне жили дятлы – белоспинные, краснобрюхие, желтошапочные и буролобые. Они все разом затарахтели и принялись долбить меня изнутри и снаружи. Я превратился в одно огромное зияющее дупло, но мне это даже понравилось. С интересом разглядывал я пустоту внутри себя и принюхивался к ней, как если бы передо мной была рюмка с выдержанным коньяком.
Три волны ароматов уловил я.
Первая волна поднималась от чресел. Она пахла подростковыми прыщами и робостью.
Вторая волна шла от груди. Честолюбивые надежды и тщеславные планы.
Третья – из головы. Самоедство и гордость духа.
Потом ароматы пропали и я пригубил самого себя. На вкус я был, как свежевыстиранная и высушенная на морозе ветхая половая тряпка.
Птицы-веники опустились на лавки. Старички чинно расселись по скамьям и один заговорил.
- Не обессудьте, судари, что я отвлекаю вас, но мне бы хотелось рассказать одну историю.
Другие старички, ровно и я, закивали головами.
- Это будет история о человеке, наступившем на тень, - пояснил старичок.
78.
- В некотором царстве в некотором государстве жил некто, постоянно наступавший на тень. Мало того, что некто наступал на тень, он еще об нее запинался. Отбивал себе пальцы, особенно доставалось мизинцам. Пальцы синели, распухали, мешали ходить. И вот как-то некто решил себе пальцы отрезать, все равно к тому времени они уже потеряли чувствительность. Пошел некто к хирургу, тот ему отрезал пальцы, а заодно и ступни. К чему ступни, если пальцев нет? А зачем пальцы, если все время о тень запинаешься? Словом, остался некто без ступней…
- И без пальцев! – напомнили старичку.
- Безусловно. С тех пор некто лежал на кровати, а если ему надо было там на работу или на кухню за едой, то он перекатывался. Но и тут вышла незадача. Тень ему мешала перекатываться.
- Та же самая тень или другая? – поинтересовался тот же голос.
- Та же самая, - терпеливо разъяснил старичок. – Катится некто, и натыкается на тень. Отшибает бока, образуются синяки, некто неработоспособен. Начальство с этим мириться не могло.
- Какое начальство? – в третий раз перебили старичка.
- Обычное. У каждого есть свое начальство. И всякое начальство не желает мириться с тем, что ему не нравится. Эта привилегия любого начальства, не правда ли?
Мы согласно закивали.
Старичку понравилось такое единодушие, он добродушно почесал щеку. И замолчал. Распаренное общество ждали продолжения. Но его не последовало.
Мы переглянулись, а потом занялись своими немудрящими делами.
Старичок сполз с полки и покатился к выходу из парилки. Мы отметили, что у старичка отсутствуют ноги. Старичок катился, охая и бормоча, то и дело натыкался на что-то и повторял: «Будь ты неладна». На боках у старичка образовались синяки. Подкатившись к двери, старичок боднул ее головой и перевалился через порог.
- Эй, а кто дверь будет закрывать? – крикнули ему вслед.
- Я! – неожиданно для самого себя сказал я.
Перед самой дверью я обо что-то споткнулся и посмотрел под ноги.
- Ты чья? – спросил я у тени.
Она рассмеялась мне в лицо, залитое потом и светом.
79.
Разговоры в предбаннике стихли. Теперь тут стоял неясный гул, словно от пролетающей где-то за облаками эскадрильи. Банные с прикрытыми глазами потягивали морсы и чаи, поглаживали себя по розовым животам, кутались в просторные хламиды.
Одному мне не сиделось спокойно. Я ходил по предбаннику туда и сюда, судорожно хватал себя за плечи, потирал переносицу, наступал банным на ноги. Банные терпеливо извинялись, убирали ноги с прохода и продолжали гудеть и кутаться, потягивать и поглаживать.
- Чего тебе не сидится? – услышал я робкий голос.
То благоразумный папа обращался к своему непоседливому сыну, и гладил его по мокрой голове.
Мне ужасно захотелось, чтобы и меня кто-нибудь робко спросил: «Ну, что тебе не сидится, сынок?» и погладил по голове. Просить об этом прямо я стеснялся и только пригибался все ниже и ниже, вытягивал шею, склонял голову. А банные втискивались в свои тумбочки, отгораживались от меня хламидами и задумчиво гудели…
Я взял следующий веник и пошел в парилку.
Народу там поубавилось. Старичков и вовсе не было. На полках сидели мужички средних лет и рассуждали.
- А вот если бы в парилку залетел воробей, - говорил один, с крапчатым носом, - то сколько бы он здесь продержался?
- Минуты две, - авторитетно заявлял второй, с плечевой татуировкой соловья. – Потом сдохнет.
- Не надо говорить «сдохнет», - возражал третий, у которого глаза были посажены настолько близко, что даже заползали один на другой. – Это грубо. Надо говорить «умрет».
- Смерти нет, - смело заявлял четвертый, с аккуратной проплешиной по центру головы.
Разговор меня заинтересовал. Я стал париться потише, сдерживая волненье веника. Четверо одобрительно посмотрели на меня, и продолжали беседовать.
- Почему это нет? – спросил плешивого крапчатый. – Кто ее отменял?
- Все умрем, - глубокомысленно вздохнул косоглазый.
- И хрен с ним, - подытожил соловей.
Все помолчали.
- Вот молодой человек парится, а ведь тоже умрет, - сказал татуированный.
Осознав неминуемость смерти, я принялся еще усерднее охаживать свои бока.
- Будто ты не умрешь, - сказал крапчатый нос.
- И я умру, - охотно согласился соловей.
И вдруг, в самом деле, умер.
Просто упал под лавку и закатил глаза.
- Чего это с ним? – удивился циклоп. – Упал и лежит.
- Перегрелся, - хладнокровно отвечал плешивый.
- Может, Ферапонтыча позовем?
- Сам придет, если нужно.
Три мужичка встали, подхватили веники, прошлись друг другу по спинам и гуськом вышли из парилки.
Я остался наедине с трупом.
Соловей с плеча вдруг встрепенулся и взлетел. Я подпрыгнул, и едва не ухватил его за хвост, но соловей вырвался и исчез в дверной щели. В парилку заглядывал Пахом Вискряк.
- Чего тут у вас? – спросил он.
Я отстранился и показал на мертвеца.
- Вот.
Ферапонтыч пожевал губы, сказал «ага» и закрыл дверь.
Я смотрел на покойника и недоумевал. Вот ведь, еще минуту назад был живой и отчасти здоровый, авторитетно заявлял, чувствовалась в нем командирский норов, властность. А вот теперь лежит себе на распаренных досках, а с полока свешивается на него веник и щекочет затылок.
Я зачем-то взял этот веник и принялся парить покойника.
Тот всхлипнул и задышал. Привстал на коленях.
- Чего это со мной было? – спросил он.
- Умерли.
- Аааа, - протянул воскресший. – Умер, значит. А теперь чего?
- А теперь воскресли.
- То-то я вдруг проголодался, - отвечал соловей. – Ладно, хватит меня парить. Спасибо. Домой пора. Жена минтая обещала нажарить, с пивом употреблю. Завтра утро работаю, надо пораньше лечь. Это. Хочешь минтая есть?
Я отказался.
Мужик удовлетворенно кивнул. Стало ясно, что минтая он предпочитал есть в одиночестве. В крайнем случае, с женой. Меня же пригласил из смутного чувства признательности. Но жадность победила признательность.
80.
Я стоял под кожераздирающим душем, задрав голову к железному раструбу. Я закрыл глаза и воображал себя никем из рода никого. Я почти добился желанной цели. Мне слышалось перешептывание моющихся.
- Глядите, глядите, вон стоит никто из рода никого.
Я приоткрыл глаз: все сосредоточенно мылись. По третьему-четвертому разу лили на головы шампунь и драли волосы, яростно терли спины мочалами, обдавали себя ушатами ледяной и огненной воды. Никому до меня не было дела.
Ко мне подошел Пахом Вискряк, закрутил душевой кран и сразу же отошел.
- Эй, - сказал я неуверенно. – Пахом Ферапонтыч, вы что?
Ферапонтыч почесал затылок.
- Я тебя не приметил.
Около других душевых все постоянно двигалось. Одни мужики подходили, другие отходили. Некоторые задерживались чуть дольше, прижимали ладони к лицу и шумно отфыркивались. Другие стыдливо отворачивались лицом к стене и стояли понурив головы, перебирая руками что-то невидимое. А струи между тем звонко лупцевали их попы, и попы дрожали от наслаждения и покрывались мелким бисером водных пузырьков.
Один я стоял уже долго-долго, задирая голову и прикрывая глаза. Мое лицо превратилось в одну большую хлюпающую лужу, которую сек бесконечный дождь. Банные обходили меня стороной. Только один мальчик подошел и подергал меня за коленку. Он был похож на печальную селедку. У меня создалось впечатление, что он перепутал меня со своим папой, потому что сразу же раздался железный голос.
- Ты зачем дергаешь … (голос хрюкнул) за коленку?
Мальчик ойкнул и отдернул руку. Его милое селедочное лицо пошло мелкой рябью и мальчик отбежал в сторону.
С отдаленной лавки уже шагал мне навстречу железный голос, обрастая угрожающей плотью.
Приблизившись к душу голос плоти сильно напрягся и долго изучал струи, долбящие мое тело. Я, как мог, укрылся под этими струями, вжался в них, закатил глаза и почти перестал дышать.
- Тут есть кто? – неуверенно спросила железная плоть.
Я молчал.
Струи мерно били о кафельную плитку, всасывались в сливное отверстие.
Глаза железного человека померкли, зрачки расширились и удлинились. Осторожно, чтобы не потревожить загипнотизированное железо, я проскользнул мимо его лодыжки и одним быстрым, длинным шагом переместился в парную.
81.
Здесь парились три рослых плечистых парня. Они медленно, словно нехотя, терли свои ноги пушистыми вениками. Если все парни были одинаково мускулисты и даже имели одинаковое выражение лиц, то вот ноги у них разительно отличались по степени волосатости. У первого ноги были абсолютно, девственно чисты. У второго были покрыты волосками умеренного размера. И они прихотливо изгибались влево и вправо, вверх и вниз, в зависимости от того, в каком направлении выглаживал свои бедра парень. У третьего… ноги третьего напоминали африканские джунгли, в которых некогда плутал Ливингстон. Я даже сощурил глаза, пытаясь рассмотреть в дебрях местную фауну и охотников-туземцев, притаившихся среди стволов, обвитых лианами.
- Да что там, - сказал безволосый. – И говорить нечего.
- Ага, - согласился умеренно волосатый.
Африканец сосредоточенно елозил веником по ляжкам.
- Вообще-то, никуда не годится. Полная хрень.
- Да уж.
Африканец шлифовал колено.
- Другое дело, если бы отымели, а так неизвестно, как будет. Начнут мудить, то-се, ну их нах.
- Само собой.
Африканец отложил веник, пощелкал пальцами по настилу.
Посмотрел по сторонам, поджал губы.
Окинул меня взглядом, прищелкнул пальцами.
Натужно выдохнул, почесал верхними резцами нижнюю губу.
Провел по мочке левого уха, поскоблил шею.
Прикрыл веником причинное место, вздрогнул.
Сел поудобнее, щелкнул по пояснице.
Потом сказал: «Делай, что хочешь, и будь, что будет», и звучно пукнул.
Потрясенные, смотрели мы втроем на африканца. А тот сидел с отрешенным видом, и глаза его стекленели.
- Ты, что творишь, парень! - не выдержал безволосый.
- Вообще уже, – поддержал его умеренный.
- Беспредел полный. Здесь люди парятся. Отвесить бы тебе люлей.
Я был полностью с ними согласен. И мне тоже хотелось поучаствовать в оскорблении действием, отвесить африканцу каких-никаких люлей, но вдруг я с ужасом понял, что обращаются-то парни не к волосатому, а ко мне.
Парни выходили из парилки, презрительно глядя в мою сторону. Африканец поднялся последним, он подошел ко мне, и резко отвел руку для удара.
У меня перехватило дыхание, я повалился на полок.
- Мудак, - констатировал африканец и вышел вон.
82.
Было второе апреля, пять часов вечера. Я лежал на полу парной Дьяковской бани, и смеркался - одновременно с апрельским днем. Там, за тяжелыми стенами бани, дрожал от холода апрель. Днем он потел, а сейчас мерз. Апрель стряхивал ледяные сосульки на влажную землю, а мои легкие слезы испарялись прямо на щеках. Я ощущал родство с апрелем. Я был потный, апрель влажный, и оба - одинаково несчастные. Несчастья наше было следствием наших неудовлетворенных желаний. Мы оба хотели больше, чем имели. Апрель иссушал себя дурными мыслями, вечер был ему мал, улицы узки, снег грязен. Прохожие досаждали, все эти замороченные мужчины с резкими морщинами и женщины с авоськами, которые тянули за руки замороченных детей. Впрочем, против детей апрель ничего не имел. Он даже пытался залететь к ним в нос, но дети били по носу ладошками и говорили: «Какой неприятный апрель, так и лезет в нос».
И апрель отступал, залезал в мусорные баки, тоскливо подвывал в сливных трубах. То, что на день успевало накапать, вновь индевело. Дороги к вечеру зарубцевались, под сапогами и ботинками раскалывались лужи, пестрые шарфы сигналили проходящим машинам.
Все было не то и не так. С самого начала моей жизни наши с апрелем пути были слишком схожи. Мы одинаково ненужно плакали, дрожали от возбуждения, наскоро любили, торопливо остерегались. Днем мы были прозрачны и текучи, по ночам – встревожены и беззащитны. Мы были недотрогами и проходимцами, слишком несмелы, зависимы, трепетны.
Апрель – это измененное состояние сознания. Апрель – все то, что возможно, но не нужно. Дорого, но забыто. Признано, но неприкаянно. Любимо и оставлено.
«Куда делся март, - подумал я с тоской. – Гордость, вызов, предчувствие».
«Поскорее бы май, - подумал я с надеждой. – Удовольствие, радушие, определенность».
А апрель – что с ним делать? – смириться с его неизбежностью, переждать, перетерпеть. Привыкнуть к его выходкам, отказать в самостоятельности, выбросить вон на попрание облакам и лужам.
В парную заходили люди. Они несли с собой себя. Рассаживались сами с собой на полках, парили себя вениками, испытывали свое состояние тела высокой температурой; состояние духа - ею же, ибо нечем было больше его испытывать. Бездуховные ловили духовных, стаскивали их с потолка на доски и не давали взлетать, прижимая израсходованными вениками и мочалами. Духовные усмехались и выскальзывали из рук бездуховных, стремясь к высшей распаренной духовности. И только я со своим потертым апрелем маячил по парной и не мог прибиться ни к какому лагерю. То мне было слишком тесно, то – чересчур просторно, и я растянулся, как побережье, от Анапы до Батуми, но не мог войти в море, которое только лизало мои щеки, живот, ступни.
83.
- Зайдешь ли в море?
Ко мне обращался старый знакомый – тот самый простецкого вида мужик, в котором я узнал улыбчивого пройдоху из Выхинского кафетерия. Того самого, в футболке с надписью «Гегемон», того дурака, что пил лимонный сок и причмокивал от наслаждения.
- Не могу я, - ответил я. – Я ведь берег.
- Так и насрать на тебя можно?
Я пожал плечами.
- Море все смоет, - пояснил мужичок. – Море, знаешь, оно какое… Оно все всегда смывает. Все говно, что есть на берегу.
- А кто же делает это безобразие, на берегу-то? – спросил я, пытаясь постигнуть заковыристую метафору пройдохи.
- Это не вопрос, - ответил собеседник. – Лучше скажи, где берег, если его море смыло?
Я помолчал.
Попытался вообразить себе смытый морем берег.
Выходило, что берега никакого сроду не было. А что было? Что есть?
- Вот что, батюшка, - сказал гегемон, - Если бы сейчас стена между мужской и женской парной рухнула и перед тобой предстала бы самая красивая женщина на свете и сказала: «Бери меня, я - твоя», а ты уж на последнем паровом издыхании, и если возьмешь ее, то врежешь самого обстоятельного дуба, что бы ты сделал?
Я задумался. Тревожно задумался, зверея и мучаясь от неразрешимого вопроса.
Умирать не хочется. И шанс упускать нельзя.
Мужичонка подошел к пышущей жаром стене, повернулся, и лягнул кирпичи задом. В образовавшемся проеме открылась женская парная. Из отверстия показалась голова Лены и сказала:
- Семен, иди ко мне.
Я сделал шаг.
84.
И попал в междурядье.
Притаился.
Потом дождь пошел. Я закрутился поплавком. Хохочу. Скоро ли клюнет? – Почувствую ли? Не оплошаю?
А воздух пахнет.
Пахнут ладони.
Пахнут увядшие травы.
Вспомнил, как с Колей по осени ходили жечь мокрую усталую траву. Мокрая трава вглядывалась в нас и смеялась. Не хотела гореть мокрая трава. Она и не трава была вовсе. Похожа на твару. Тварная трава, чуткая, робкая. Во влажной воздушной зыбке.
В люльке лежит ребенок. В зыбке. Мы все как в люльке, как в зыбке. Озабоченные поплавки, насмешливые поплавки, плывем, покачиваясь. Скоро ли клюнет? Почувствуем ли? Не оплошаем?
А под спудом – все наши страхи и радости, страсти и горести.
Я припомнил январские проказы.
Февральские сновидения.
Мартовские мосты.
Апрельские зрачки.
Майские липы.
Июньские гадания.
Июльские стансы.
Августовские пряники.
Сентябрьские ветра.
Октябрьские неги.
Ноябрьские витрины.
Декабрьские мостовые.
Мостовые, полные клевера. И мой друг детства Ян идет по клеверу босиком, а на его коленке – кузнечик. Бьется жилка, болит горло, слезятся глаза.
Пахнем ореховой патокой. Я подставляю ладонь и слизываю солнечные капли. Нёбо холодит студеная капля.
Мы – клевер на Божьем Лугу.
И тут я чувствую – тянет. Клюнуло! Да что же? – заглядываю в светлую воду, а там – бьется и мерещится, искрит и сверкает, вздрагивает и поет, так что глазам больно… Здравствуй, здравствуй – вот и ты, моя снежинка, моя потаскушка.
Мерцает как глаза любимой. Наобещает с три короба – и выполнит.
Всю жизнь просидишь с удочкой – и ничего не поймаешь. Опустишь ладонь в воду – и все сбылось.
85.
В двух шагах от меня стояла виноградная девушка.
- Кто ты? - спросила она.
- Кто я? – переспросил я.
Я не знаю.
Я смотрю на свою руку. Здравствуй, рука. Не случайно ли ты – моя? В тебе больше своего, чем моего. Я – это не ты.
Я прислушиваюсь к своему сердцу. Здравствуй, сердце. Не тревожно ли, не спокойно ли ты? В тебе больше своего, чем моего. Я – это не ты.
Я осознаю свои мысли. Здравствуйте, мысли. Путаные, тревожные, никчемные, прекрасные. В вас больше вас, чем меня. Я – это не вы.
Кто я?
Я тот, кто влюблялся, трусил, обманывал, защищался, оправдывался, обвинял и отпускал.
Нет, нет, я не тот. Я только присвоил себе все эти чувства. Но кто был тот, кто присвоил их себе? По какому праву присвоил?
Я прислушивался к себе.
Виноградная девушка улыбалась.
86.
- Постой, - сказал я ей. – Подожди немного. Подожди меня. Я вернусь, а пока поищу ответ. Кто я? Не смотри на меня так. Не улыбайся. Я еще не готов. Я боюсь твоей улыбки, она смущает меня. Обещаю, я найду ответ и вернусь.
Она покачала головой.
- Ты знаешь ответ.
- Может быть. Дай мне поискать его. Прошу тебя.
- Я подожду.
Виноградная девушка зачерпнула горсть апреля и бросила мне в лицо.
87.
По улице шел убийца. Я подошел к нему и врезал, не задумываясь.
Убийца упал и покатился по асфальту.
Раздались возмущенные возгласы. Я поднял вверх правую руку.
- Стоп. Это – мой убийца. Поняли? Ищите своего.
И пошел дальше.
По неистовому апрелю.
Я шел мимо коренастого Демидова, мусолящего купюры с Кливлендом.
Мимо обозленного Сергея, заглядывающего Демидову через плечо.
Мимо Михрюткина, заползшего на постамент и окруженного обморочной толпой.
Мимо брюзжащего Глеба, который спорил с надменной Бузявиной.
Мимо водителя такси, жонглировавшего тремя глазными протезами.
Мимо Софочки и ее бабушки, которые обдували из диджериду всех, кто слишком долго стоял на месте.
Краем левого глаза я заметил маму и отца, которые медленно шли друг на друга и держались за руки, как влюбленные дети.
Краем правого глаза я увидел, что на скамейке дядя Боря и Пахом Вискряк играют в шашки.
Надо мной пролетал самолет, из иллюминатора которого выглядывала Островитянинова.
А я шел и улыбался.
Я шел в кафетерий, где меня ждали Коля и Лена.
Лена уже звонила несколько раз, а потом смирилась с тем, что я задерживаюсь.
- Может быть, тебе что-нибудь заказать, неудачник? – спросила она меня на удивление беззлобно.
- Возьми лимонного сока, - сказал я. – Лимонный сок – это лучшее, что есть в жизни. За исключением апреля, конечно. Слышишь, Лена? Возьми лимонного сока.
-
 Желания и цели на Новый год
Желания и цели на Новый год
-
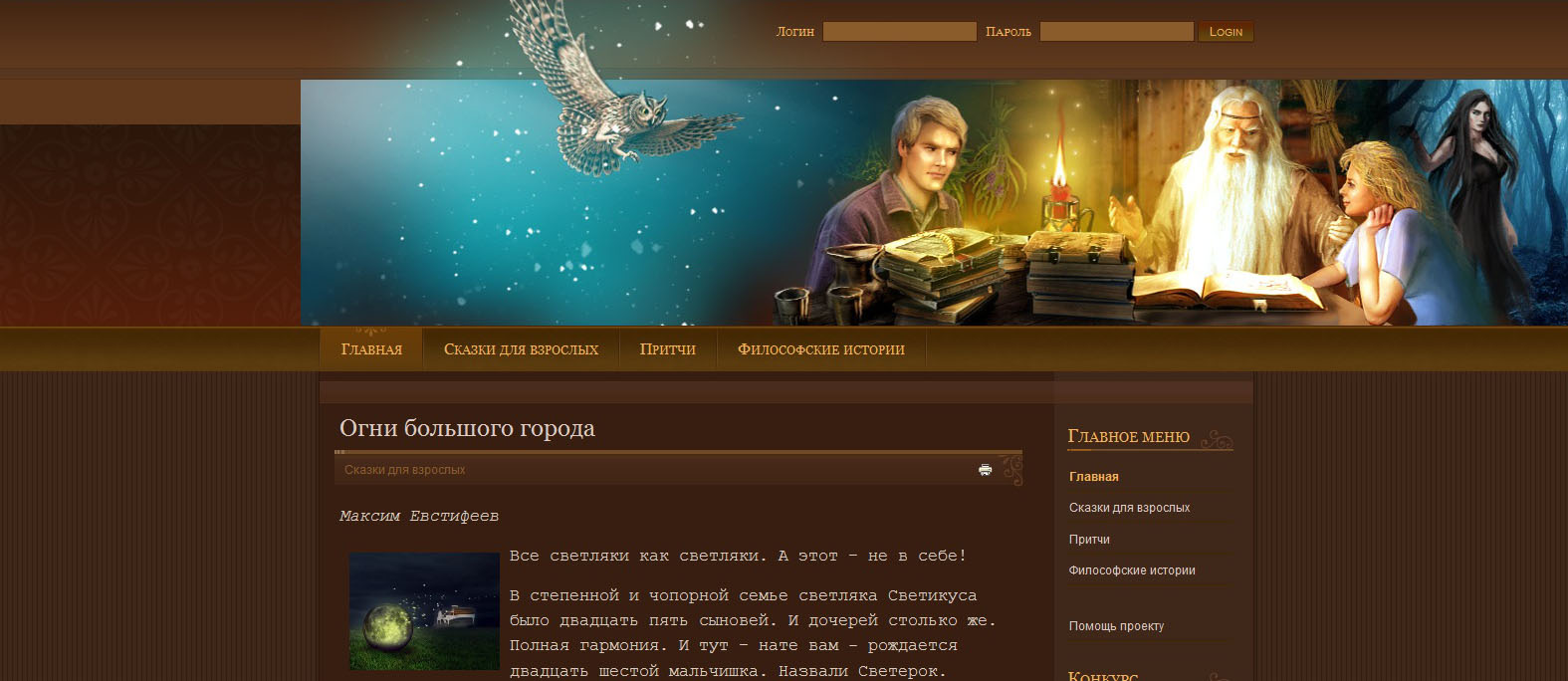 Взрослым нужны сказки!
Взрослым нужны сказки!
-
 Я люблю Мажордомо…
Я люблю Мажордомо…
-
 Восьмая пресуппозиция НЛП: «Вселенная – место дружественное»
Восьмая пресуппозиция НЛП: «Вселенная – место дружественное»
-
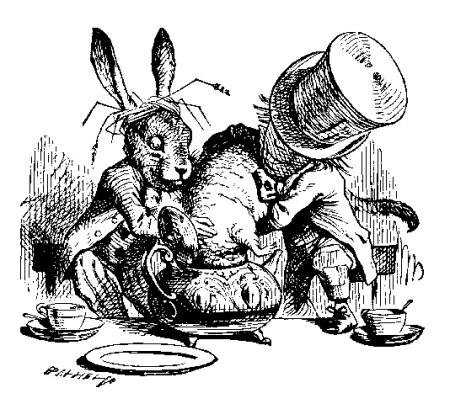 Седьмая пресуппозиция НЛП: «Сознание и тело образуют единую систему и оказывают влияние друг на друга»
Седьмая пресуппозиция НЛП: «Сознание и тело образуют единую систему и оказывают влияние друг на друга»
-
 Шестая пресуппозиция НЛП: «Нет неудач, есть обратная связь»
Шестая пресуппозиция НЛП: «Нет неудач, есть обратная связь»
-
 Пятая пресуппозиция НЛП: «Смысл сообщения – в реакции, которую оно вызывает»
Пятая пресуппозиция НЛП: «Смысл сообщения – в реакции, которую оно вызывает»
-
 Четвертая пресуппозиция НЛП: «Любое поведение представляет собой выбор наилучшего варианта из имеющихся в настоящий момент, исходя из способностей и возможностей человека, определяемых его моделью мира»
Четвертая пресуппозиция НЛП: «Любое поведение представляет собой выбор наилучшего варианта из имеющихся в настоящий момент, исходя из способностей и возможностей человека, определяемых его моделью мира»